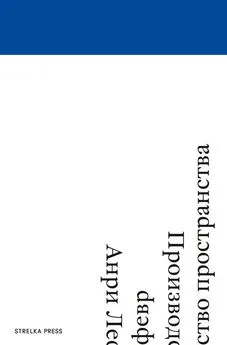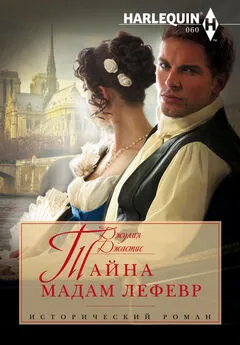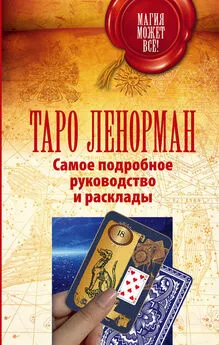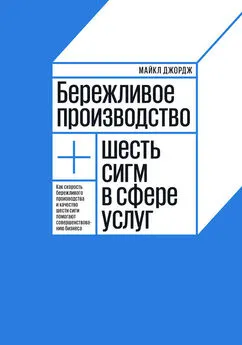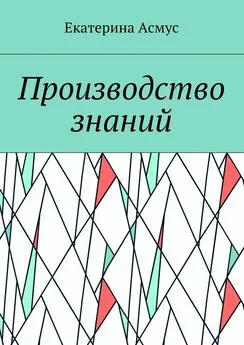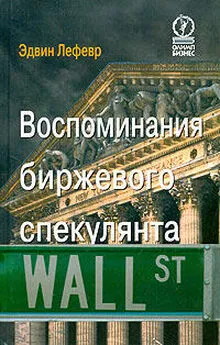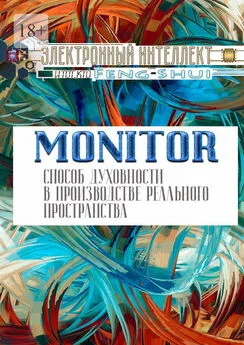Анри Лефевр - Производство пространства
- Название:Производство пространства
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Стрелка пресс»f3fd0157-a4ca-11e1-aac2-5924aae99221
- Год:2015
- ISBN:978-5-906264-48-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анри Лефевр - Производство пространства краткое содержание
Пространство Лефевра, где ощущения, идеи, практики и физический мир соединяются в динамическом процессе постоянного возникновения и воспроизводства отношений между людьми, сообществами и институтами. Классическая работа французского философа Анри Лефевра «Производство пространства» одна из самых амбициозных попыток преодолеть извечный спор между теми, кто считает пространство абсолютной данностью физического мира, и теми, кто полагает, что оно существует лишь в сознании человека.
Производство пространства - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Что касается желания, то это понятие остается двойственным, несмотря на все старания риторики представить его как нечто цельное и полное. Желание пребывает по эту сторону потребностей; слово это обозначает энергетические запасы живого существа, стремящиеся к взрывной трате без определенной цели, в насилии и разрушении или в саморазрушении. Догматическая теология и метафизика во все времена отрицала изначальную индифферентность желания. Для наиболее последовательных теологов желание существует изначально, до всего, – желание желания и вечности. Для психоаналитиков желание «есть» желание половое, желание матери или отца. Трудность состоит в том, что изначально недифференцированное желание (не имеющее объекта, ищущее свой объект, обретающее его в соседнем пространстве, чаще всего благодаря поощрению) одновременно детерминировано как имеющаяся в распоряжении (взрывная) энергия. Эта энергия проясняется – объективируется – в сфере потребностей и в рамках сложного отношения «производительный труд – недостача – удовлетворение». Вне сферы определенных потребностей, связанных с предметами (продуктами), слово «желание» обозначает совместную устремленность еще имеющихся энергий к одному концу, к одной цели. К какой цели? Уже не к разрушению и саморазрушению в минутном пароксизме, но к творчеству: любви, человеку, произведению. Согласно такому толкованию (которое открыто несет на себе печать учения Ницше), сфера Великого Желания (Эроса) открыта для желания.
В такой перспективе, обусловленной скорее поэтически (то есть качественно), нежели понятийно, вещи и продукты в пространстве соответствуют различным, если не всем потребностям: каждая из них ищет в этих вещах удовлетворения, находит его, производит свой объект. Встреча той или иной потребности и того или иного объекта определяется особыми локусами, которые сами определяются этой встречей. Пространство наполнено зримой массой предметов и незримой массой потребностей.
Описания, которые дал Р. Жирар «объектам» и «субъектам» [173], можно отнести и к большинству пространств: они сакрализованы насилием, они черпают свой авторитет в священной жертве или убийстве, в войне или терроре.
Даже если потребности (все и каждая) имеют тенденцию повторяться, а значит, требуют повторяемости предметов, искусственных или «реальных» (но реальное и искусственное трудноразличимы), они тем не менее множественны; они умирают в силу повторения – это явление именуется насыщением. Желание, существующее по эту и по ту сторону потребностей, вызывает брожение этого рыхлого теста. Движение не позволяет установиться застою, оно не может прекратить производить различия.
VI. 28
В математике и в точных науках повторение (итерация, рекуррентность) порождает различие. Индуцированное-редуцированное различие сближается с формальным тождеством, после чего сразу же определяется остаток, выступающий предметом нового, более углубленного анализа. Последовательность складывается в рамках транспарентной логики, в ближайшем соприкосновении с ней. Так порождаются числовые ряды, от единицы до трансфинитных чисел. В экспериментальных науках изучение вариантов и переменных, остатков, возможно лишь при наличии постоянного механизма, точного повторения условий.
Напротив, в музыке, в поэзии различие порождает повторение, делающее это различие эффективным. Искусство в целом и художественное чутье стремятся к максимальному различию – вначале вероятному, существующему лишь как предчувствие и предвидение, затем произведенному. Они делают на него ставку, и это называется «вдохновением», «замыслом», стимулирующим создание нового произведения – именно как нового; после чего поэт, музыкант, живописец находят средства, приемы, технику, короче, путь реализации замысла с помощью повторяющихся действий. Зачастую замысел терпит крах, вдохновение пропадает впустую: полагаемое и предполагаемое различие оказывается иллюзией, видимостью, неспособной проявиться, то есть быть объективно произведенной с использованием соответствующих средств (материалов и инструментов). Бесконечность замысла, который легко (субъективно) воспринимается как бесконечность смысла, оборачивается ничем. Оригинальность намерения сводится к избыточности, к дублированию, а его новизна – к впечатлению: к мыльному пузырю.
Загадка тела, его близкий и глубинный секрет, стоящий по ту сторону «субъекта» и «объекта» (и их философского разграничения), заключается в «бессознательном» производстве различий на основе повторов, жестов и ритмов (линейного и цикличного). В непознанном пространстве тела, ближнем и далеком, постоянно совершается парадоксальная стыковка повторяемости и дифференциации – основополагающее «производство». Секрет тела трагичен, ибо порожденное время, несущее с собой новизну – в процессе взросления и в развитии взрослости, – приносит заодно старение и смерть: страшное, драматическое, предельное повторение. Это высшее различие.
Абстрактное пространство (точнее, те, кто используют его как инструмент) подталкивает отношения «повторение – различие» к антагонизму. Действительно, оно делает ставку на повторяемость: заменимость и взаимозаменяемость, воспроизводство, гомогенность. Оно сводит любые различия к различиям индуцированным: приемлемым внутри совокупности «систем», предусмотренных как таковые, заранее изготовленных как таковые, всецело избыточных как таковые. Для достижения этой редукции используются все возможные средства – коррупция, терроризм, принуждение, насилие. Отсюда – соблазн встречного насилия, встречного террора во имя восстановления различия в использовании и с помощью использования. Разрушение и саморазрушение из случайных происшествий ставятся законом.
Подобно плотскому телу живого существа, пространственное тело общества, то есть социальное тело потребностей, отличается от «абстрактного корпуса» или «тела» знаков (семантического или семиологического, «текстуального») тем, что не может существовать без порождения, без производства, без создания различий. Запретить ему это – значит его убить.
Вблизи этой нижней границы «существования» суетятся некоторые производители пространства: архитекторы, «урбанисты», планировщики. Зато другие барахтаются там в свое удовольствие, ибо имеют дело с заменяемым и взаимозаменяемым, количественным, со знаками: капиталами, «недвижимостью», объемами-коробками, техникой и изделиями в подчиненном пространстве.
Архитектор находится в особенно неудобном положении. Будучи представителем науки и техники, производителем в определенных рамках, он делает ставку на повторяемость. Однако как вдохновенный художник, чувствительный к использованию и «пользователям», он ставит на дифференциальное. Он пребывает в точке мучительного противоречия, бесконечной отсылки одного к другому. Ему, архитектору, выпадает на долю трудная задача: победить разделение продукта и произведения. Его судьба – переживать конфликты, отчаянно пытаясь преодолеть стоящее перед ним все более глубокое разделение между знанием и творчеством.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: