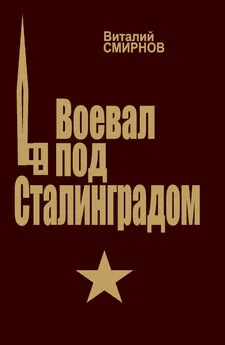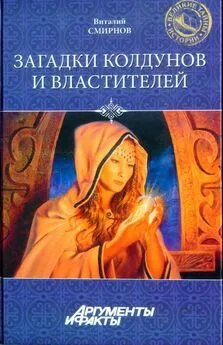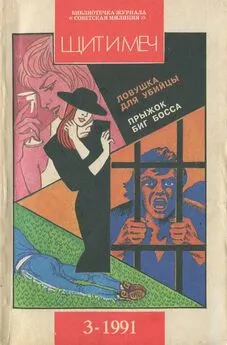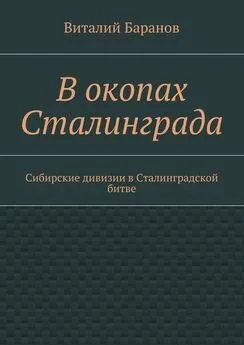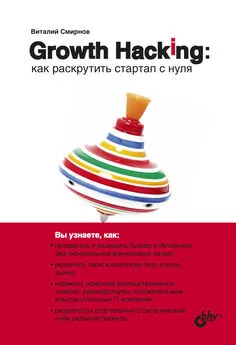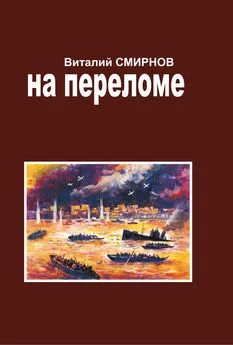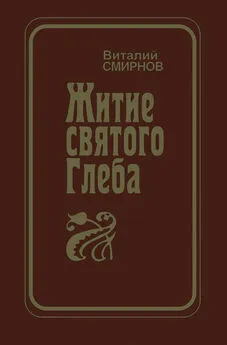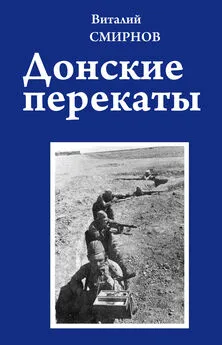Виталий Смирнов - Воевал под Сталинградом
- Название:Воевал под Сталинградом
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2006
- Город:Волгоград
- ISBN:5-9233-0492-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виталий Смирнов - Воевал под Сталинградом краткое содержание
Воевал под Сталинградом - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Эстетическое кредо, которым руководствовался писатель при создании романа «Мой Сталинград», сформулировано им в предисловии к книге. Относя все свои «военные» произведения к разряду художественно-документальных, более того – автобиографических, М. Алексеев подчеркивает: «В них нет выдуманных, или, как еще говорят, вымышленных персонажей. Все мои герои – истинны, за ними сохранены их действительные имена. Большая их часть сложила свои головы там, в Сталинградской кровавой купели. Эти люди, мои однополчане, уже никогда не смогут рассказать о себе. Считаю своим нравственным долгом рассказать о них. Я обязан это сделать, хотя бы уже потому, что остался жить, а они погибли, чтобы я жил. Разумеется, я имел бы большую свободу, идя по проторенной дороге традиционного романа с придуманными героями. Но я не мог этого сделать по соображениям моральным: зачем мне нужна придумка, когда я знал живых людей, настоящих героев Сталинградской героической и трагической эпопеи?!»
Нетрудно заметить, что сформулированные здесь принципы эстетического отражения действительности были неоднократно апробированы М. Алексеевым ранее и доказали свою эффективность при воспроизведении такого жизненного феномена, каким является война. В этом случае, во-первых, писателю нет необходимости думать о занимательности, потому что особый мир войны всегда подспудно содержит в себе категорию интереса, без которой произведение не будет востребовано читательской аудиторией. Во-вторых, та локальная группа людей, задействованная во фронтовом событии – в особенности в течение длительного промежутка времени (в романе «Мой Сталинград» – в течение битвы), содержит в реальной жизни те сюжетные сцепления, которые нет необходимости придумывать. В-третьих, повествователь, являющийся участником этих событий, служит тем сюжетным стержнем, который объединяет событийную мозаику в единое целое, как, скажем, ракурс художника-баталиста в панораме Сталинградской битвы. В-четвертых, ориентация на художественно-документальный жанр (в конкретном случае – на репортаж и очерк) дает возможность объединить сюжет ис-торической фабулой, в основе которой лежит хроника битвы, логика ее развития, до предела сократив то, что на-зывается вымыслом и авторским комментарием.
А уж конфликт как «двигатель» сюжета «военному» роману всегда обеспечен, потому что «бесконфликтной» войны не бывает. Автору следует только выбрать аспект его рассмотрения.
В основе сюжета алексеевского романа (хоть и говорят, на войне сюжета нет) лежит логика развития фронтовой действительности от появления на сталинградской земле, в междуречье Дона и Волги, в августе 1942 года стрелковой дивизии, одной из человеческих единиц которой был повествователь, и до последнего дня битвы, когда по улицам непокоренного города пошли понурые толпы обмороженных немцев, которые, казалось бы, совсем недавно были близки к победе. Двести дней и двести ночей – каждый из которых мог быть последним. Двести дней и двести ночей – между молотом и наковальней.
Стоит ли искать сюжет, более насыщенный драматизмом, доходящим до трагизма, как в плане внешнем (событийном), так и плане внутреннем, в котором сконцентрировались психологические переживания человека, каждодневно находящегося в экстремальной ситуации. К тому же, если воспользоваться вошедшим с бахтинских времен в литературоведческий обиход понятием хронотопа, то он в романе «Мой Сталинград» весьма локализован как временными границами (это не вся война, которая зачастую представала в романах, претендовавших на эпопейность), так и пространственными: отнюдь не все поле боя, то расширявшееся, то сужавшееся на картах сталинградского сражения за эти двести суток, а Абганерово, Елхи, потом пространство в непосредственной близости от города и в нем самом. И даже еще уже – до позиции полка, роты, командирского блиндажа, фронтовой судьбы одного человека, до события, которому «сам был свидетель», – так заявлено в авторском предуведомлении. Это еще более «уплотнило» так называемый романический «хронотоп», наделив его чертами, свойственными драматургическому роду литературы с его триединством действия, места и времени.
Разумеется, такая пространственно-временная организация романа иногда ущемляет интересы писателя, в особенности в тех случаях, когда ему хочется, как говаривал Белинский, «по закону творческой необходимости» выйти за самим установленные хронологические границы повествования. Эта потребность возникает чаще всего, когда писатель дает предысторию событий до начала фабульного романного действия. Их он видеть не мог, в них не участвовал. Но закон – говорить только правду – для него свят. И в этом случае хронотоп расширяется за счет включения мемуарной литературы. Особенно доверительно М.Алексеев относится к дневникам первого секретаря Сталинградского обкома партии А. С. Чуянова.
А за счет мемуаристики и документалистики – опять-таки прямо по законам драматургии! – появляются в романе так называемые «внесценические» персонажи – сам Чуянов, Сталин, Хрущев, Жуков и даже фашистские военачальники, что позволяет распространить пространство сюжетного действия далеко за пределы батального хронотопа. А мемуары и документы, в том числе архивные, вершителей судеб Сталинградского «пятачка» с обеих противоборствующих сторон органически входят в романное повествование. Впрочем, эта традиция уже достаточно апробирована в художественной литературе о Великой Отечественной войне.
Естественно, что уж тут придумывать, домысливать, когда демиургом этого ристалища и жизни каждого участника в нем становилась судьба. Конечно, двести дней и ночей – это не один день, скажем, из жизни Ивана Денисовича: тут психологическим микроскопом не воспользуешься. Здесь средства воспроизведения и характеров, и обстоятельств, в которых не все зависит от человеческой воли, должны быть принципиально иными. Здесь не распишешь день по часам, а часы – по минутам, потому что каждая минимальная единица времени стоила человеку жизни. «…Из Сталинградского сражения, – заметил М. Алек-сеев, – выйти живым – это почти противоестественно, а погибнуть в нем – это в порядке вещей, это почти неизбежно».
Я говорю об этом потому, что снобистская критика может завести разговор – использую здесь военную терминологию – о недостаточной укомплектованности поэтического арсенала Михаила Алексеева средствами психологического анализа. Претензии к автору «Вишневого омута» или «Карюхи» могут оказаться несправедливыми.
Надо исходить из самой природы жанра романа «Мой Сталинград», из его пространственно-временной организации, из его хроникального типа повествования с четкой установкой – повторюсь! – на документальность изображаемого. А это требует и совершенно иной формы психологизма. Лев Толстой когда-то упрекал автора «Повестей Белкина», что его психологизм какой-то «голый», не учитывая всей системы средств создания иллюзии достоверности в пушкинских повестях.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: