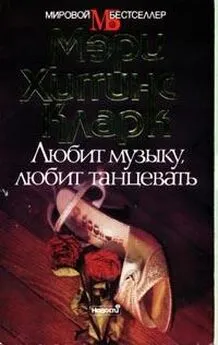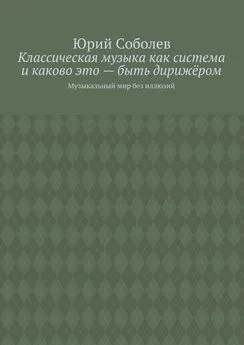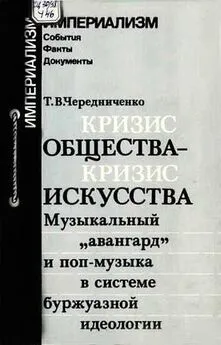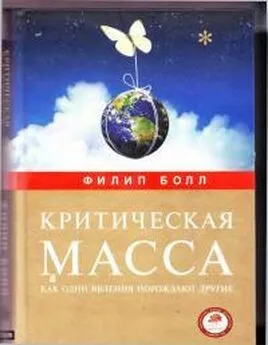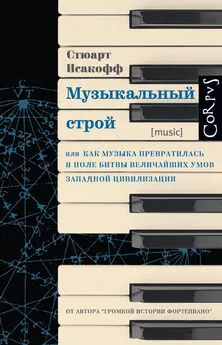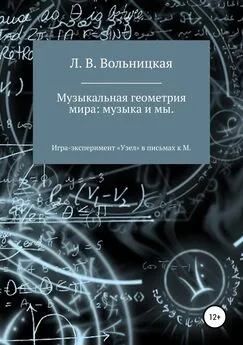Филип Болл - Музыкальный инстинкт. Почему мы любим музыку
- Название:Музыкальный инстинкт. Почему мы любим музыку
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент 5 редакция
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-04-113519-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Филип Болл - Музыкальный инстинкт. Почему мы любим музыку краткое содержание
Музыкальный инстинкт. Почему мы любим музыку - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Мораль мелодии
Аристотель полагал, что музыка обладает фундаментальной моралью, потому что она непосредственно имитирует страсти души и может также пробудить их: «когда люди воспринимают ухом подражания, даже без ритма и мелодии, у них изменяется душевное настроение». Слушая неправильную музыку, вы становитесь плохим человеком, – настаивал он в своей книге «Политика», – в то время как хорошая музыка развивает ум так же, как гимнастика развивает тело. Боэций повторил это в шестом веке н. э., сказав, что музыка «обладает способностью либо улучшать, либо портить наш характер». Таким образом, музыка может быть инструментом для формирования характера народа: «Позвольте мне создавать песни для народа, – писал Платон, – и мне все равно, кто издает для него законы». Именно поэтому музыка подверглась строгому регулированию в ранних конституциях Афин и Спарты (помните, однако, что в древней Греции музыкальное значение обычно выражалось в словах, которые его сопровождали. Платон не одобрял чисто инструментальную музыку именно потому, что, «когда нет слов, очень трудно распознать значение гармонии и ритма» или увидеть, что они изображают любой достойный предмет»).
Святой Августин разрешил использование музыки в христианском богослужении, когда написал в трактате «De musica», что она может направлять души к благородному и благочестивому поведению. Мартин Лютер, который стремился лишить христианскую службу любого намека на излишество, прославлял музыку: [98] «De musica» вообще-то не совсем о музыке: первые пять или шесть книг посвящены метру и стихосложению. Но Августин позволил взглянуть на музыку в новом свете, так как она требует культивации и активного участия, а не просто пассивного слушания: как сказал Хиндемит: «Музыка, как гумус в почве, нужно вкапывать, чтобы он стал плодородным».
«Богатство музыки так превосходно и так ценно, что слова подводят меня, когда я хочу выразить и описать его…In summa вместе со Словом Божьим благородное искусство музыки – самое драгоценное сокровище мира. Она контролирует наши мысли, умы, сердца и души».
Музыка, как он заключил, «дисциплина, хозяйка порядка и хороших манер, она делает людей нежнее и мягче, нравственнее и разумнее». В двадцатом веке Пауль Хиндемит разделял эту веру в духовные и моральные ценности музыки. И критический взгляд, который делает музыку казуативным принципом поведения, жив и сегодня. Он оправдан обвинениями в том, что «неправильная» музыка развращает, хотя эта позиция в большей степени опирается на ксенофобию и потребность в козлах отпущения, чем на классическую науку. В 1920-х годах джазовую музыку обвинили в «возвращении современных мужчин, женщин и детей к стадии варварства»; теперь настал черед тяжелого рока и гангста-рэпа, чтобы те взяли на себя вину за преступность и антисоциальное поведение. Конечно, верно, что музыка может в соответствующем контексте усиливать и подавлять эмоции, ведя людей к лучшему или к худшему, но мы должны скептически относиться к идее, что последовательность нот обладает внутренней способностью искажать или очищать сердца и умы. Одна лишь музыка не может заставить нас совершать хорошие или плохие деяния.
Это не значит, что музыка не способна нести сообщения и делать предложения. Музыка может использоваться для оглашения явных программных заявлений. «Ленинградская» симфония Шостаковича была жестом патриотического сопротивления нацистскому вторжению в Советский Союз и даже вызывающе транслировалась на укрепления немецкой армии, осаждающей одноименный город (конечно, Шостакович подвергся сталинскому осуждению, когда «послание» его работ было признано идеологически необоснованным). Намеки на знакомые мелодии или стили могут оказаться остроумными или ироничными, ностальгическими или тоскливыми. Это, однако, референциальное значение, в котором «смысл» исходит из внемузыкальных ассоциаций. И поскольку контекст способен создавать и преобразовывать смысл, композиторы не могут надеяться предвидеть или контролировать то, как будет использоваться их музыка, – будь то любимый фашистами Вагнер или Прокофьев под спортивные телепередачи. Стравинский утверждал, что был в ужасе от динозавров, резвящихся под «Весну священную» в «Фантазии» Диснея, хотя это могло быть ретроспективным спасением собственного престижа. Но великое искусство превосходит собственное разумное обоснование – сегодня нам все равно, что Гендель писал свою музыку в честь давно позабытых королевских мероприятий. Когда Даниель Баренбойм дирижировал операми Вагнера в Израиле, он имел в виду, что музыке не могут препятствовать апостериорные моральные или политические условности.
Создание форм и повествование
Отказ Стравинского от всякого смысла вне формальной музыкальной структуры – формалистская позиция, которую мы видели ранее, та, которую отстаивал Эдуард Ганслик, – может показаться обескураживающей, потому что она предполагает, что нужно узнать нечто о музыкальной форме, прежде чем она сможет что-то значить конкретно для вас. В худшем случае это отношение приводит к бесплодной «музыкальной признательности», которая исключает любые эмоции помимо высокого чувства формальной красоты. Музыка не говорит о чувственном удовольствии, она будто обличает и стыдит вас за эти чувства.
Тем не менее, холодная перспектива Ганслика была понятным ответом на снисходительный избыток, порожденный романтизмом. Наряду с осуждением недифференцированных сантиментов, в которых по его мнению погрязли слушатели, Ганслик возражал против того, как классическая музыка стала поводом для рассказа фантастических историй. Со времен Бетховена стало привычным думать о музыке с точки зрения повествования. Как правило, история включала в себя уход из стартовой точки с последующим возможным возвращением в трансформированном и просвещенном состоянии. Даже в течение жизни Бетховена его музыка была окружена комментариями и интерпретациями: аудитория желала знать, что он пытается сказать ей. Одной музыки уже не хватало – она требовала слов, а слова неизбежно приписывали создателю музыки: считалось, что музыка Бетховена связана с опытом Бетховена. От простой выразительности мы пришли к самовыразительности. Подобные вещи были бы невообразимыми и бессмысленными в применении к Баху или даже к Моцарту, но представление о «послании» музыки, о том, что она пытается выразить не только музыкальные мысли, распространено и по сей день.
Пытаясь оценить эту идею, мы должны прояснить одну вещь: она не определяется просто заявленными намерениями композитора или музыканта. Те могут назвать значение своей музыки определенными словами, но это не гарантирует, что именно это значение они сообщают с помощью музыки. Цель западной музыки заключалась в изображении неличностных эмоциональных состояний, и Моцарт с Гайдном пользовались музыкой именно таким образом. Так как Бетховен и Шуман жили в эпоху, когда музыка считалась выражением личностный мыслей, то вполне понятно, что они с помощью своего творчества выражали именно это. Вопрос заключается в том, понимал ли их слушатель, – или даже была ли коммуникация достаточно прозрачной, чтобы позволить допустимое чтение содержания. Мы убедились, что в некоторых случаях мог возникнуть консенсус об общем эмоциональном настроении композиции, – но это явление нельзя считать сопоставимым со «значением».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: