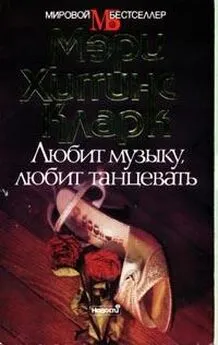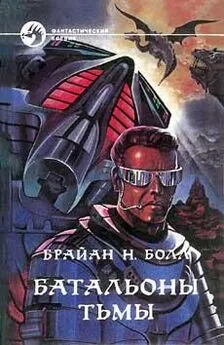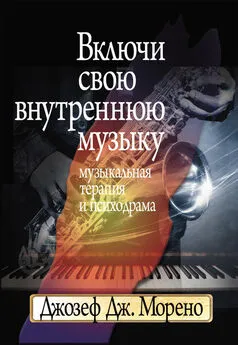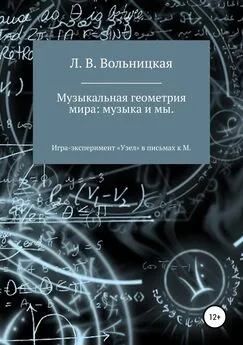Филип Болл - Музыкальный инстинкт. Почему мы любим музыку
- Название:Музыкальный инстинкт. Почему мы любим музыку
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент 5 редакция
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-04-113519-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Филип Болл - Музыкальный инстинкт. Почему мы любим музыку краткое содержание
Музыкальный инстинкт. Почему мы любим музыку - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Тем не менее это не говорит нам о том, что «означает» музыка «Героической» – мы узнаем только о том, что вдохновило Бетховена на ее написание. Аарон Копланд делает проницательное предположение, что величие композиции находится в обратной зависимости от способности понять сегодня ее содержание. «Легче прикрепить смысловое слово к пьесе Чайковского [так-то!], чем к пьесе Бетховена, – писал он, – и именно поэтому Бетховен является великим композитором».
Все это заставило самих музыкантов потерять уверенность в том, каким видом искусства они занимаются, и в том, как его можно охарактеризовать. «Есть ли смысл в музыке? – спрашивал Копланд. – Мой ответ на это будет «Да». Можете ли вы описать словами, что это за смысл? Мой ответ на это будет «Нет». В этом и заключается трудность явления». Для Густава Малера в этом и заключался весь смысл: «Если композитор мог сказать то, что он хотел сказать, словами, он не стал бы пытаться сказать это музыкой».
Феликс Мендельсон соглашался, оспаривая мнение тех, кто противопоставлял неопределенность смысла музыки точности, которой можно достичь в литературе:
«Люди обычно сетуют, что музыка слишком многогранна по смысловому содержанию; очень неоднозначно, что следует думать о прослушанной музыке, тогда как значение слов понимают все. Для меня все как раз наоборот. И проблема не только с целыми речами, но и с отдельными словами. Они тоже кажутся такими двусмысленными, такими расплывчатыми, такими непонятными, если сравнивать их с настоящей музыкой, которая наполняет душу явлениями в тысячу раз лучшими, чем слова. Мысли, которые выражает для меня любимая музыка, едва можно определить и выразить словами, и в то же время они предельно конкретны».
В этом видится не просто хвастовство музыканта, что его искусство способно на большее, чем искусство писателя. Французский поэт Поль Валери придерживался того же мнения:
«Речь является общим и практическим элементом; таким образом, это обязательно грубый инструмент, поскольку каждый обращается с ним и присваивает его в соответствии со своими потребностями и имеет тенденцию искажать его в соответствии со своей личностью… Как удачлив музыкант! [Музыкальные] элементы являются чистыми или состоят из чистых, то есть узнаваемых, элементов».
Эта способность «точно сказать что имеется в виду», похоже, лежит в основе знаменитого утверждения Уолтера Патера, что «все искусство постоянно стремится к состоянию музыки».
Но другие отрицали принципиальную возможность передачи смысла. «Если музыка, как почти всегда кажется, что-то выражает, то это всего лишь иллюзия, а не реальность», – писал Стравинский. Жан-Жак Руссо, Иммануил Кант, Георг Вильгельм Фридрих Гегель и Герман фон Гельмгольц соглашались с тем, что музыка не имеет «предмета» как такового: она не о чем-то, а просто есть. Или, как сказал в середине двадцатого века Джек Уэструп, профессор музыки из Оксфордского университета: «Строго говоря, нельзя писать о музыке; музыка выражает то, что она говорит, в своих собственных терминах, и их невозможно перевести на язык так же, как невозможно перевести изображение».
Многие люди не могут примириться с этим мнением, ведь для них оно как будто подразумевает (но, конечно, на самом деле нет), что музыка – это просто звук, а отрицание музыкального значения, которое может быть выражено при помощи слов, угрожает стать ограничительной догмой. Один из мотивов интересной, но ошибочной попытки Дерика Кука расшифровать «язык» музыкального значения заключался в том, что он чувствовал, что критики конца 1950-х годов считали почти неприемлемым вопрос о намерении композитора «сказать» что-то. Опасаясь, что эта полемика приведет к субъективности, они капитулировали перед авторитетным заявлением Стравинского о том, что анализ музыки должен ограничиваться только ее формой. Кук сетовал, что благодаря такому отношению музыка осталась на уровне «декоративного искусства» и не стала методом исследования человеческого состояния, в каком качестве он ее представлял.
Все, что было написано и сказано о семантическом значении музыки, адресовалось западной классической музыке. Эту точку зрения можно отстаивать (хотя нет сомнений в том, что здесь не обошлось без культурной предвзятости) на том основании, что западная классическая музыка обладает во многих отношения наиболее экспрессивным, рафинированным и утонченным музыкальным вокабуляром, а также с особой ясностью определяет вопрос коммуникативности. Более того, западное искусство стало основой для исследования философских и экзистенциальных идей. Поэтому можно заключить, что если западная классическая музыка с трудом может найти способ передать свое семантическое значение, то и музыка остальных культур с большой долей вероятности сталкивается с такой же проблемой.
Тем не менее этот факт не умаляет возможность передачи музыкального смысла. Популярная музыка подает свой основной посыл на блюдечке: слова песни и манера исполнителя не оставляют сомнений в значении исполняемой композиции. Ту же тенденцию можно проследить во многих незападных обществах, где музыка обладает строго определенными социальными функциями, которые и несут в себе ее истинное значение: она обосновывает ритуалы, сопровождает танцы, вбирает в себя культурные устремления (само собой разумеется, что эти качества присущи и западной классической музыке).
Кроме того, многое зависит от смысла, который мы вкладываем в слово «значение». Некоторые утверждают, что инструментальная музыка обладает специфическим нарративом, другие же полагают, что значение несут в себе эмоциональные качества. Копланд считал, что «музыка в различные моменты выражает умиротворение или радостное возбуждение, сожаление или триумф, ярость или блаженство. Всякое из этих настроений способна изобразить музыка, а также многие другие с бесчисленным количеством оттенков. Она даже может выражать такое значение, для которого не существует словесного эквивалента». Он полагал, что данное «значение» не закреплено за определенной композицией – «музыка, которая постоянно говорит об одном и том же, вскоре надоедает и становится бесцветной, но музыка, значение которой с каждым прослушиванием немного отличается, повышает свои шансы на долгожительство». Тем не менее Копланд не отвечает, во‐первых, можно ли приравнивать эти настроения к значению музыки; во‐вторых, можно ли считать передачу смысла основной целью или функцией музыки; и в‐третьих, что в этом контексте означает слово «выражать». Обо всем этом мы скоро поговорим.
В действительности, в этой главе я хочу разобраться не с вопросом о возможности музыки иметь значение – очевидно, что на этот вопрос можно ответить «да», – я хочу выяснить, может ли музыка передавать идеи не строго символическим способом и не предопределенным социальным консенсусом методом. Могут ли сами ноты сказать нам что-то, сказать каждому человеку?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: