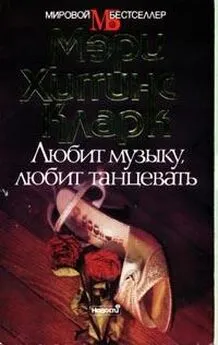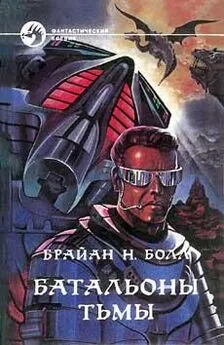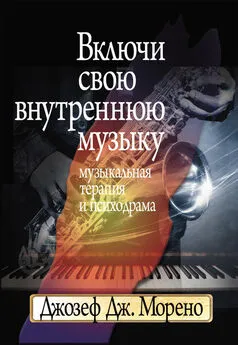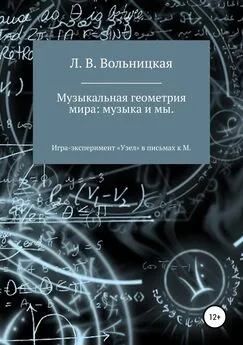Филип Болл - Музыкальный инстинкт. Почему мы любим музыку
- Название:Музыкальный инстинкт. Почему мы любим музыку
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент 5 редакция
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-04-113519-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Филип Болл - Музыкальный инстинкт. Почему мы любим музыку краткое содержание
Музыкальный инстинкт. Почему мы любим музыку - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Например, композиторы начала девятнадцатого века, такие как Шопен, начали искать способы срезать традиционные маршруты между двумя тональностями и добивались этого посредством сложного хроматизма: теоретики музыки иногда называют эти эксперименты с гармонией эксцентричными и беспринципными. Но на обобщенной картине Тимочко мы увидим, что эти эксперименты обращались к некоторым геометрическим свойствам аккордового пространства, ограниченого определенными правилами, которые композиторы интуитивно понимали, даже не имея представления об их математическом обосновании. Готфрид Лейбниц писал, что музыканты пользуются математикой, того не осознавая; но новаторы гармонии девятнадцатого века исследовали через музыку такие геометрические пространства, которые располагались за пределами понимания современных им математиков.
7
Кон мото
Порабощенные ритмом
Отчего в музыке появляется пульс?
Представьте, что вы никогда не слышали джаза (если вам не нужно представлять себе такую ситуацию, то немедленно откройте www.youtube.com/watch?v=wrTrkWJNyOY и www.youtube.com/watch?v=ukL3TDV6XRg а потом возвращайтесь [49] Любопытно? Это видео Дюка Эллингтона «Cottontail» (со знаменитым танцем) и квинтета Чарли Паркера с Маркизом Фостером за ударными с композицией «Groovin’ High».
. Видите, сколько вы упустили?). Теперь представьте, что вам нужно изучить ритм джаза просто с нотного листа; из этой затеи ничего не получится, верно? Элвис Костелло высказался на эту тему в утрированной форме: он сказал, что писать о музыке – это то же самое, что танцевать об архитектуре. Эта позиция становиться полностью понятна, когда речь заходит о ритме.
Возможно, идея знакомства с джазовым ритмом только через ноты звучит немного глупо. Однако Игорь Стравинский попытался поступить именно так, когда писал оперу-балет «История солдата» (1918 год). Первая мировая война забросила Стравинского в Швейцарию, когда джаз еще не успел проникнуть так далеко в культуру Европы; композитор уже слышал об этой невероятной новой музыке, но в те времена заглянуть на YouTube возможности не было. Друг композитора, Эрнест Ансерме, который позже дирижировал на премьере «Истории солдата» в Лозанне, смог достать несколько листов джазовой партитуры во время своего путешествия в Америку; и только на основании этих страниц Стравинский пытался представить, какой он, этот джаз.
«История солдата» не схожа звучанием с джазом: переходы и сложные обозначения размера (5/4, 5/8, 7/16) говорят о том, что в принципиальная нерегулярность ритма произведения перепутана с нерегулярной ритмикой джаза, наложенной на постоянный ритм. Это обстоятельство не умаляет достоинств произведения Стравинского, но если композитор с его утонченным пониманием ритма не справился с загадкой джаза, то мы с уверенностью можем признать ритм действительно чем-то тонким и неуловимым. На бумаге указан лишь обычный тактовый размер, а на практике ритм либо существует как «осязаемая» величина, либо нет.
В то же время немногие аспекты музыки можно назвать более простыми. Попробуйте ради эксперимента посмотреть указанные выше видео и не начать пританцовывать. Говорят, музыка находит быстрый путь к сердцу, но определенный тип музыки находит короткую дорожку к ногам; ничто не может сравниться с силой ритма, под действием которого мы превращаемся в безвольную куклу на ниточках и не можем перестать дергать ногами и руками (хотя подчас мы, бедолаги, вынуждены подчиняться культурным нормам концертного зала: это особенно хорошо знакомо детям).
Что такого заключено в ритме, что буквально поднимает нас на ноги? Как он может быть таким захватывающим и таким трудно уловимым в нотации? Что же такое ритм на самом деле?
Где отсчитывают «бит»?
Не во всей музыке присутствует ритм. Композиции наподобие работ Дьёрдья Лигети (как в галлюциногенной кульминации фильма Стэнли Кубрика «2001: Космическая одиссея») и Яниса Ксенаксиса представляют собой более или менее непрерывные вереницы звуков, которые едва ли можно сопоставить с понятием частоты импульсов. С другой стороны спектра находится Карлхайнц Штокхаузен и его электронная работа «Kontakte» (1958—60), как будто создана из нескольких более или менее разрозненных акустических явлений, игнорирующих наложение временной сетки. И хотя в «Адажио для струнных» Сэмюэла Барбера присутствует основной ритм, мы едва ли замечаем его: кажется, что струны непрерывно скользят сквозь пьянящие, плачущие аккорды. Музыка для китайской безладовой цитры (цинь) обладает ритмом в смысле появления нот разной длительности, но они не располагаются поверх стабильного основного пульса: музыкальная нотация не указывает длительность ноты, но говорит о манере извлечения звука.
Впрочем, все описанное выше относится к редким случаям. Квазирегулярный пульс пронизывает большую часть мировой музыки. Например, песни австралийских аборигенов могут сопровождаться равномерными ударами палочек для отбивания ритма, «хлопушками» из бумерангов или просто хлопками ладоней (Рис. 7.1); можно представить, что перкуссионные звуки и составляют сам ритм, хотя это не совсем так. Ритм – концепция довольно понятная, но при этом трудноопределимая, его легко можно перепутать с понятием музыкального метра – равномерного разделения времени на доли, разделенные интервалами, который люди привыкли называть «битом». Ноты или сами звуки не должны совпадать с такими отрезками: иногда они выпадают из ритма, иногда накладываются на него, иногда заполняют промежутки между ритмичными ударами.

Рис. 7.1 Эта песня аборигенов исполняется под аккомпанемент постоянных ритмичных ударов специальными палочками.
И все же метр и доли не настолько незамысловаты, как может показаться. В музыкальном произведении могут быть равномерные промежутки между нотами, но при этом не быть метра – например, как в грегорианской молитве. Чтобы создать ритм из равномерного пульса, некоторые импульсы должны быть выражены ярче других. Чаще всего яркость достигается посредством повышения громкости: мы считаем РАЗ два три четыре РАЗ два три четыре… При этом наш разум стремится организовывать и улавливать такую дифференциацию даже там, где ее нет: сыграйте человеку последовательность из одинаковых ударов – и он обязательно услышит, что звуки разделены на группы, чаще двудольные та-та-та-та-та-та. Базовый инстинкт разделения на группы присутствует в нас с рождения, он проявляется даже у новорожденных, но впоследствии его оттачивает культура – например, англичане и японцы разделяют простые равномерные последовательности тонов по-разному, что отражает влияние шаблонов их непохожих языков. Эта тенденция получает поддержку и других музыкальных факторов: например, мелодические контуры предлагают разделение на ритмические группы через повторы нот, линий и фраз (Рис. 7.2).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: