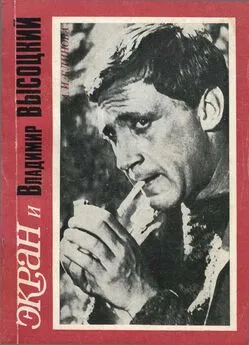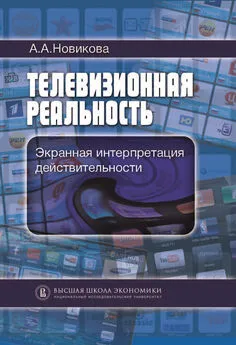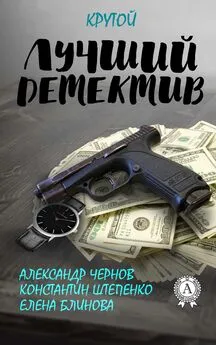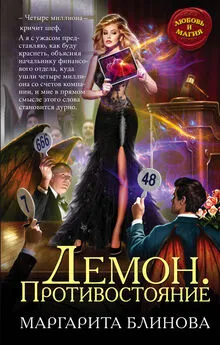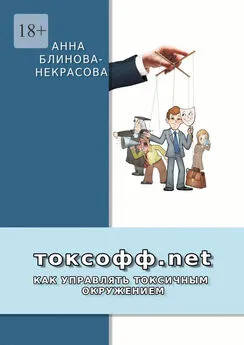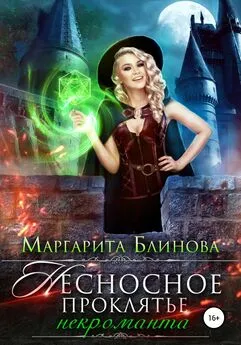Анна Блинова - Экран и Владимир
- Название:Экран и Владимир
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Всероссийский институт переподготовки и повышения квалификации работников кинематографии Комитета кинематографии при Правительстве Российской Федерации
- Год:1992
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анна Блинова - Экран и Владимир краткое содержание
На основе подробного анализа экранных ролей Владимира Высоцкого автор исследует поступательный процесс его актерского становления — от первых, эпизодических до главных, масштабных, мощных образов.
В книге использованы отрывки из писем Владимира Высоцкого, рассказы его друзей, коллег.
Экран и Владимир - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Такой вопрос актер мог себе задать. Но теперь уже только в отношении кинематографа! Ведь в сентябре 1964 года в его судьбе произошло чудо: Юрий Любимов взял Высоцкого в свой Театр на Таганке. Работы поначалу были незначительные: в «Добром человеке из Сезуана» Высоцкого ввели на роль Второго бога, затем — Племянника, потом — Мужа. В «Герое нашего времени» у него была крошечная «ролька» драгунского капитана (и мы только теперь можем вообразить, каким бы он стал Печориным!); в «Антимирах», «Десяти днях, которые потрясли мир», в «Павших и живых» у Высоцкого роли были тоже совсем небольшие, как, впрочем, и у всех актеров, занятых в этих спектаклях. Время Высоцкого в Театре на Таганке наступит только в 1966 году, когда он получит роль Галилея в брехтовской пьесе. А «Стряпуха» в кино снималась на год-полтора раньше. Было отчего испытывать тягостные минуты!
Пожалуй, этот фильм вполне укладывается в Прокрустово ложе бывших тогда на экране кинокомедий. Он не достиг высот Рязанова в «Карнавальной ночи» и в «Человеке ниоткуда», Данелии в картине «Тридцать три», но где-то солидаризировался (не на равных, разумеется!) с довоенными лентами И. Пырьева и Г. Александрова, заимствуя у них каскадность, смешных «дедов» в кожухах и с ружьями, заряженными дробью, удивительно похожих на шолоховского Щукаря, и неурядицы между влюбленными, заканчивающиеся счастливым финалом.
«Стряпуха» смотрелась анемичной как по сравнению с комедиями Пырьева и Александрова, несмотря на то, что они служили эталоном для Э. Кеосаяна, так и с дальнейшим творчеством самого постановщика «Стряпухи». Но все-таки это была профессиональная работа, с четко определенными функциями персонажей, с узнаваемой, не оригинальной, но вполне допустимой интригой и уж совсем неплохими операторскими съемками.
Место действия — село на Кубани. Главные герои — Павлина и Степан, ищущие пути к сердцам друг друга «окружными методами», со срывами и разочарованиями, с ревностью и радостью. Бригадиры Серафим Чайка и Галина Сахно тоже влюблены друг в друга, и между этой парой возникают комедийные недоразумения, связанные с ревностью: Серафиму почудилось, что его Галина влюбилась в комбайнера Степана, а Галина решила, что Серафиму вдруг приглянулась Павлина, — новая стряпуха полевого стана.
Появление Павлины можно было считать сенсацией для выдуманного мира этой станицы: уж очень выделилась на общем фоне героиня Светличной, — хорошенькая, тоненькая, с русалочьими глазами и с быстрыми, красивыми движениями. Ее соперница (оказавшаяся мнимой), грубоватая Людмила Хитяева, контрастно подчеркивала привлекательность Павлины, ту притягательную силу для мужского пола, которая в ней таилась: таковы были задачи фильма! Иначе не было б оснований и у Пчелки, героя Владимира Высоцкого, обратить на Павлину внимание!

Он «убрал» всякое понятие о мысли…
Комизм положений обрисовывался авторами фильма не лирически, как в свое время, например, у Пырьева, не резцом скульптора, а, скорее, кувалдой разнорабочего. Поэтому в жизни станицы, представленной на экране А. Софроновым и Э. Кеосаяном, присутствуют мужчины-ухажоры, «приударяющие» за Павлиной не столько по велению сердца, сколько по «мужскому глазу», легковесно и грубо воспринявшему прелесть молоденькой стряпухи. В числе таких ухажоров, как уже сказано, был и Пчелка.
Внешне Высоцкого можно узнать, лишь пристально вглядевшись, — так изменил его лицо цвет волос, перекрашенный в соломенный. Свисает этот соломенный чуб на лоб, а в глазах — ни одной мысли: актер их «убрал». И ходит по деревенской улице эдакий «между прочим, холостой» парень, в тельняшке, с постоянной гармоникой в руках. Он грубоват, вписывается в общую среду таких же немудрящих людей, естественен. Кавалер, — хоть и не единственный здесь, — но один из первых на селе. Стряпуха понравилась — он спокойно поднимает руку — чуть ли не для спора с Серафимом Чайкой: моя, мол, будет, стоит только мигнуть. Получив отпор от Павлины, он, не желая ударить лицом в грязь перед товарищем, с деланным презрением, чуть враскачку, отходит прочь и изрекает на ходу свою характеристику недоступной и суровой стряпухе:
— Сельпо… тундра.
Теперь он будет подходить к Павлине с почтением, торопливо съедать свою, положенную порцию борща и слишком быстро возвращать пустую миску: чтобы не успела сказать обидное при всех! Благородства от Пчелки не жди, он не привык ходить в отвергнутых, и из мести нет-нет, да и скажет что-нибудь неблаговидное о стряпухе: мол, тот — или иной мужик — «возля стряпухи околачивается». Внешне Андрей Пчелка часто бывает очень по-деревенски привлекательным. Вот идет он вдоль скошенного поля — справа девушка, слева — другая, — а он поет, аккомпанирует себе на гармонике: местный сердцеед, да и только! Но слишком часто в глазах Пчелки, а, скорее, Высоцкого, стоит не то тоска, не то самая обычная скука. Актер или считал своим долгом сделать этот персонаж обычным, серым, будничным, и потому гасил эмоции, — или просто не смог скрыть собственных ощущений («унизился до такой «степени ничтожества»). Можно склониться к первой мысли: ему нечего было играть, а если перевоплощаться, — разве что в такую вот безликость. Были два-три кадра, когда Пчелка улыбнулся, и вспыхнула его улыбка, и отразилась в глазах окруживших его девчат: хорош, мол, парень! Эти кадры оживили обычно «деревянное» лицо Пчелки, но — совсем ненадолго.
В финале персонаж Высоцкого сидит на бревнах с дедом Сливой, — двойником Щукаря. Вечер, он мрачно тянет меха своей гармоники, и, на попытки деда что-то «новенькое» рассказать, отвечает голосом тусклым, лишенным какого бы то ни было настроения: «Знаю… И про это знаю…». И затем — бредет по улице, закрываемой словами «Конец фильма». Бредет один, в темноте, непонятно зачем «всунутый» режиссером в «Стряпуху», не сыгравший никакой роли в интриге фильма, а просто так — поприсутствовавший в нем.
В картине много песен, — чужих, не Высоцкого. Он, правда, поет и под гармонь, и под гитару… но не своим голосом. Этот неповторимый голос переозвучивали!
Вперед — и выше!
В 1966 году в Театре на Таганке Высоцкий получил роль Галилея в пьесе Бертольта Брехта «Жизнь Галилея». Начиналась новая жизнь, — премьера знаменитого Театра на Таганке. И, может быть, нужно было погрузиться с головой только в Галилея, отказаться от роли капитана-танкиста Володи, извинившись перед белорусским кинорежиссером Виктором Туровым, в чьем доме и сегодня на почетном месте висит фотография Высоцкого и Влади, извиниться и перед старым другом Геннадием Шпаликовым, написавшим сценарий для предполагавшегося фильма. Но Высоцкий всегда любил перемены и приятные неожиданности, и кинематограф любил, несмотря на мучившие его вечную бестолочь на съемках, на неорганизованность в работе. К тому же материальное «обеспечение» Высоцкого оставалось прежним — 150–160 рублей в месяц в театре (теперь хоть постоянных!), а детишек уже было двое, отчего и жена не имела возможности работать. Он откликнулся на предложение сняться в картине «Я родом из детства».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: