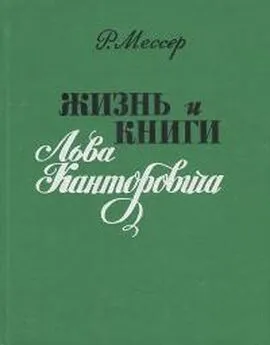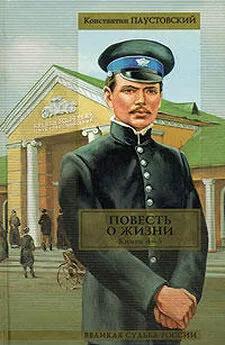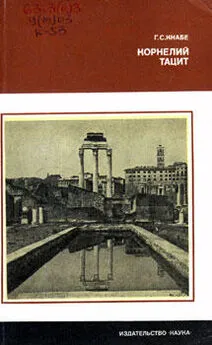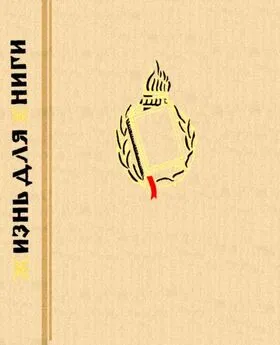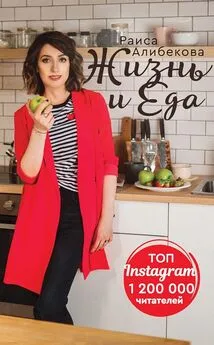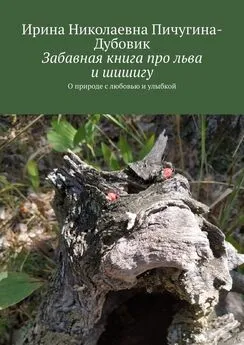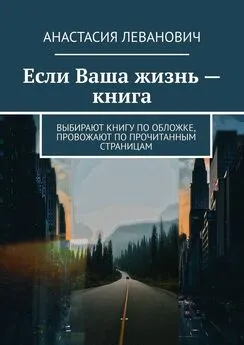Раиса Мессер - Жизнь и книги Льва Канторовича
- Название:Жизнь и книги Льва Канторовича
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1983
- Город:Ленинград
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Раиса Мессер - Жизнь и книги Льва Канторовича краткое содержание
Рисунки, помещенные в книге, принадлежат самому Л. Канторовичу, который был и талантливым художником.
Все фотографии, публикуемые впервые, — из архива Льва Владимировича Канторовича, часть из них — работы Анастасии Всеволодовны Егорьевой, вдовы писателя.
В работе над книгой принял участие литературный критик Александр Рубашкин.
Жизнь и книги Льва Канторовича - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
О жизни отца Коршунова рассказано подробно: об участии в дореволюционной рабочей забастовке, о первой мировой войне, где он был ранен, о дальнейшем трудовом пути — восстановлении своего завода после гражданской войны. До последнего часа этот беспартийный рабочий остается на своем посту, когда он умирает, его хоронит весь завод. В повести показано отношение старика к сыну, гордость за то, что «его Сашка рвется в генералы». В письмах он называет его: «Ваше превосходительство, мой Сашка!»
Главное в истории Коршунова-отца — ее социальное содержание, важное не только для самой биографии героя, но и для обрисовки истоков духовного мира советского военного человека 30-х годов. При ином общественном строе такие биографии, как у Левинсона и Коршунова, не могли быть обычными. Где, кроме социалистического государства, сын маляра мог стать полковником, закончить Академию Генерального штаба? Рассказано обо всем естественно, спокойно. В нашей стране становилось обычным такое продвижение людей, основанное лишь на способностях и настойчивости.
Отдельная глава о жизни отца героя была в повести закономерна. Но жизнь Коршунова-старшего здесь лишь описывалась, излагалась. Во втором варианте повести, в «Александре Коршунове», где вставных глав не было, отец уже лицо действующее. Он едет в больницу к сыну, знакомитсяс Алы и Субботой, он понимает, что значит для его Сашки Аня, «черноволосая сестра». Сравнение вариантов повести показывает, что писатель продолжал думать над образами своего любимого произведения.
Как и предвидел товарищ Коршунова, партийный секретарь Захаров, жизнь нашего героя еще на взлете. К последней главе он уже начальник штаба округа. Однако того накала — и мысли и действия, — которым отличались первые главы, здесь нет. Похоже, что автор механически соединяет истории, которые могли бы дать содержание пограничным рассказам. По такому принципу повесть можно продолжать довольно долго. Очевидно, автор это чувствовал. Отсюда, возможно, и поиски вариантов, и стремление к иным сюжетным ходам в написанном позже одноименном сценарии.
Эпизоды на западной границе были необходимы Канторовичу, чтобы подчеркнуть важную для него мысль. Здесь нет боев и походов, но суть пограничной работы остается прежней: «Нужно побеждать здесь, как мы побеждали в Азин. Правила игры остаются прежними... Мы не просто стережем такой-то участок границы... Мы охраняем землю». Так определилась задача армии мирных дней.
Повесть «Полковник Коршунов» была психологически глубока, но ей не хватило исторической широты, временных реалий. Все-таки девять лет в жизни героя, тем более героя интеллектуального, — это большой период в жизни страны. Рецептов, как давать эти приметы времени — публицистическими ли отступлениями, отдельными штрихами,— не существует. Скажем, в повести С. Диковского «Патриоты» после упоминания о том, что Корж много ездил и видел, сказано: «Он знал, что в Новороссийске из города на «Стандарт» ездят на катерах, что в Бобриках выстроили кинотеатр почище московских, что Таганрог стоит на горе...» И кажется, будто пограничники чувствуют за спиной всю страну. В другом случае после
Трудно представить, чтобы в разговорах героев Канторовича, письмах, прочитанных книгах так или иначе не отразилось бы почти десятилетие жизни страны. Понятно, речь идет не об информационно-газетном отражении. Глухо упомянуты полярники, но, скажем, те самые международные события, которые заставляли готовиться к войне, оставались в тени. Даже приход Гитлера к власти в Германии. Неужели разговоры Коршунова с Левинсоном носили всегда чисто теоретический характер? Конечно, таким образом писатель оградил себя от материала временного, скоро забываемого, но, с другой стороны, в повести не оказалось даже Москвы тех лет со строительством метро и передвижкой домов. Время же отразилось — и отразилось хорошо — в сознании героев, их некоторой прямолинейности и даже аскетизме. Но приметы времени не пошли бы во вред этому талантливому произведению.
Лев Канторович не был художником публицистического склада, он стремился передать свои мысли через характеры героев, их действия. Но то, что было ему особенно дорого, то, что проходило через все творчество писателя, герои его произведений высказывали иногда прямо. И прежде всего касающееся профессии пограничника, защиты страны от посягательств. Ведь эти рассказы и повести создавались, когда фашизм уже пошел в наступление, когда мы читали сообщения о расправах выучеников Муссолини в Абиссинии (Эфиопии), когда итальянский и немецкий фашизм наступали в Испании. В разговоре с Коршуновым его друг пограничник Иванов говорит: «Когда будет война, мы первые примем бой. Мы ведем бой и сегодня. Война не объявлена, но война идет. Большая, последняя война. Война между двумя системами. Война между двумя силами, двумя мировоззрениями, двумя началами на земле. В войне победителями будем мы, но победу мы завоюем в бою и бой будет трудным...»
Так думает Иванов, так же думали и Коршунов, и Канторович. В споре с немецким шпионом Регелем, захваченном при переходе границы, отвечая на его истерические выкрики о сером человеческом стаде, Коршунов так же прямо выражает и мысли автора: «Мы победили вас, и сегодня, если нас тронут, мы победим десятки и сотни и тысячи таких, как вы, Регель. И мы победим обязательно, потому что за нас история и у нас миллионы людей, знающих, за что они борются, и знающих, что они защищают право на счастье...»
Это было написано за три года до самого трудного боя, который выдержала наша страна. Автор «Полковника Коршунова» знал, что он, как и его герой, не будет щадить себя в этом бою.
Критика одобрительно встретила повесть «Полковник Коршунов». В одной из первых рецензий Геннадий Гор писал: «В повести Льва Канторовича «Полковник Коршунов» нет стен. Канторович из тех писателей, которые любят встречаться со своим героем под открытым небом: во льдах Арктики, в горах Средней Азии, на границах нашей прекрасной страны, в больших ее лесах. От этого и герою не тесно в книгах, и читателю не душно, не скучно...»
Г. Гор не относится к повести апологетически, он, в частности, возражает против вставных новелл, считая, что «читателю хочется перескочить через них, чтобы идти дальше вместе с героем...» Развивая свой основной тезис (герой вне стен), автор рецензии утверждал, что образ заглавного героя хорош лишь там, где он проявляется в действии — в бою. «Образ Коршунова слит с действием, и там, где нет действия, нет Коршунова, а только его тень. Стиль Канторовича блекнет, образ Коршунова становится бледным и схематичным, когда герой — за пределами боевых событий, когда он в комнате, хотя бы этой комнатой была столовая санатория... или аудитория академии». Обнаруживая реальные просчеты писателя, Г. Гор абсолютизировал понравившуюся ему схему. Но его конечный вывод не оставлял сомнений в общей оценке повести: «Канторович хорошо знает свой материал и передает его честно». [12] Гор Г. Встреча с героем. — Резец, 1939, № 4, с. 24.
Интервал:
Закладка: