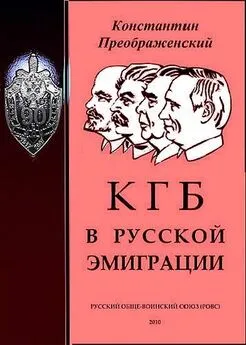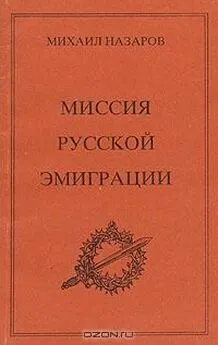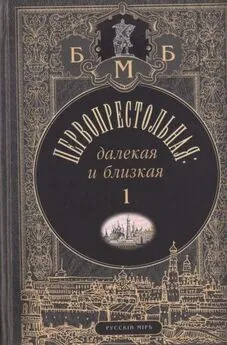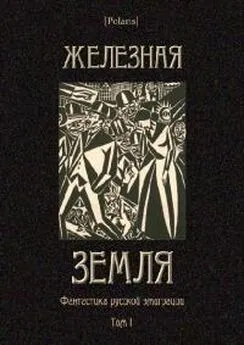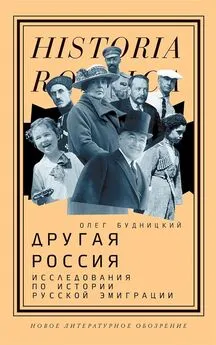Роман Гуль - Я унес Россию. Апология русской эмиграции
- Название:Я унес Россию. Апология русской эмиграции
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Роман Гуль - Я унес Россию. Апология русской эмиграции краткое содержание
Я унес Россию. Апология русской эмиграции - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Думаю, мало кого убедили возвращаться в СССР эти четыре публициста возвращенчества. Но смуту, полемику, ссоры они, естественно, невольно для себя в Зарубежьи вызвали. И евразийцев, и сменовеховцев обошла Москва и уничтожила. Без Москвы не обошлось, оказывается, и с возвращенчеством. Тут оказалась налицо утонченная большевицкая бесовщина. Об этом рассказал Владислав Ходасевич в статье «К истории возвращенчества», написанной в 1920-х годах, но опубликованной мной посмертно (Ходасевич умер в 1939 году) в редактировавшемся мной журнале «Народная правда» (№ 17–18,1951). Этот журнал давно стал «библиографической редкостью», и я думаю, поступлю правильно, если статью Ходасевича (на мой взгляд, ценнейшую!) полностью перепечатаю. Вот она. Ходасевич пишет:
«В „Днях“ и в „Последних новостях“ появилось перепечатанное из советских газет письмо Горького к Ганецкому по поводу смерти Дзержинского. Что Горький Дзержинского „и любил, и уважал“, для меня с некоторых пор не ново. К тому же это дело его личного вкуса и его отношений с начальством. В его письме меня взволновало другое. Отныне я по совести не могу больше хранить про себя обстоятельство, которое из горьковского письма вскрывается лишь попутно, а между тем имеет общественное значение.
Я вынужден начать издалека. В конце 1924 года, в Сорренто у Горького около двух недель гостила его первая жена, Екатерина Павловна Пешкова. Я в то время жил там же. До тех пор я с Е. П. Пешковой встречался лишь мельком. В моих глазах она была прежде всего председательница Политического Красного Креста, сумевшая даже от большевиков добиться того, чтобы они, закрыв Красный Крест, все-таки допустили ее хоть и единоличное, но деятельное продолжение работы по облегчению участи тех, кому довелось стать жертвами ГПУ. Я смотрел на нее с уважением, которое по отношению к ней общепринято.
В Сорренто, из ее разговоров со мной и с другими лицами, а также из многих других обстоятельств, я с удивлением увидел, что к советскому режиму Екатерина Павловна относится восторженно, говорит цитатами из „Известий“ и вообще держит себя „кремлевской дамой“, вроде Коллонтай, Каменевой и других. С особенным постоянством обращалась она к той теме, что эмигрантам следует как можно скорее возвращаться в СССР.
Живя в Сорренто, Е.П. поддерживала оживленную переписку с некоторыми видными представителями эмиграции, в том числе с Е. Д. Кусковой. Из Сорренто Е. П. Пешкова 3 декабря 1924 года уехала в Россию. Уезжая, не раз говорила, что проездом должна побывать в Праге, чтобы там повидать Е. Д. Кускову „и других“ (кого именно — не называла). На просьбы погостить еще — отвечала, что должна ехать, так как иначе не застанет Кускову в Праге, а между тем это свидание для нее важно. Спустя приблизительно месяца два после ее отъезда Горький однажды сказал мне, что в сентябре этого года (1925) истекает трехлетний срок, на который была условно выслана из России известная группа писателей, ученых и общественных деятелей, и что в сентябре же некоторые из них станут проситься обратно и поведут агитацию за возвращение. „Давно пора“, — не раз повторил Горький.
Я выразил сомнение, чтобы это могло случиться. Но Горький настаивал на достоверности своих сведений и в точности назвал мне четыре имени: Е. Д. Кусковой, С. Н. Прокоповича, А. В. Пешехонова и М. А. Осоргина. На мой недоверчивый вопрос, откуда ему все это известно, он ответил, что от Е. П. Пешковой. При этом прибавил, что Екатерина Павловна ездила в Прагу, чтобы оказать непосредственное влияние на Кускову, Прокоповича и Пешехонова.
Признаюсь, я тогда разговору не придал значения. Он показался мне одним из тех политических фантазирований Горького, в которых он редко бывает удачлив и дальновиден. Однако недальновиден на этот раз оказался я. Именно в назначенный Горьким срок разразилась кампания, получившая название „возвращенской“ и поднятая именно теми лицами, которых назвал мне Горький.
Когда возвращенчество обозначилось и когда действительность подтвердила назначенные Горьким имена и сроки, я понял, что слова Горького о роли Е. П. Пешковой были, к несчастью, не фантазией, а правдой. Когда же выяснилось, что влияние московских сфер на зачинателей возвращенчества имело целью не действительное возвращение их в Россию, а лишь смуту в умах и сердцах эмиграции, то есть ее раздробление и разложение, тут стало для меня ясно, что Кускова, Прокопович и Пешехонов сделались жертвами провокации.
Начиная с сентября 1925 года я неоднократно и гораздо более подробно излагал свои сведения ряду лиц, в том числе М. А. Алданову, М. В. Вишняку и другим. Не сомневаюсь, что они помнят наши беседы. Должен заметить, что серьезного значения моим словам никто придать не пожелал. Общераспространенное доверие к Е. П. Пешковой было сильнее моих доводов, да и сам я ее обвинял лишь в том, что она бессознательно и легкомысленно выполняет миссию, на которую ее незаметно толкает ГПУ. Как на толкающую силу я, впрочем, тогда же прямо указывал на Дзержинского. Но когда я говорил, что Екатерина Павловна отзывается о нем с уважением, с любовью, с нежностью, что он — ее близкий личный друг, что она и в разлуке проявляет о нем трогательную, даже сентиментальную заботливость, — тут уж мне просто не верили, без всяких оговорок.
Да и трудно было поверить, что „утирающая слезы“ Е. П. Пешкова столь душевно близка к главному палачу. Самому мне порой казалось, что я что-то преувеличиваю. Но я припоминал разговоры, факты и вновь убеждался в верности своих наблюдений. И снова какое-то сомнение все-таки меня мучило: слишком тяжело верить себе самому, когда дело идет о таких вещах.
Поэтому не с радостью удовлетворенного самолюбия („вышло по-моему!“), а с болью в сердце и с ужасом прочитал я теперь в письме Горького полное подтверждение моих мыслей: приводимый Горьким отрывок из „трагического письма“ Е. П. Пешковой по поводу смерти Дзержинского: „Нет больше прекрасного человека, бесконечно дорогого каждому, кто знал его“.
Она возбуждала возвращенчество с ведома Дзержинского. При таком отношении она в этом деле не могла поступать без ведома того, кого это в первую очередь касалось и кто ей был так „бесконечно дорог“. А с ведома — значит, по поручению.
Я думаю — нет надобности говорить, что все это я пишу не для того, чтобы как-нибудь „опорочить“ лично Кускову, Пешехонова, Прокоповича. Вполне допускаю, однако, что они будут возражать, ибо никто не любит сознаваться в своих ошибках, а политическому деятелю особенно трудно бывает сказать: „Да, меня спровоцировали“. Конечно, нелегко будет Кусковой, Прокоповичу, Пешехонову согласиться с тем, что я за семь месяцев вперед знал, когда именно их должно с особою силой потянуть на родину. Но я виноват только в том, что мне за кулисами показали веревочку, за которую их потянут.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: