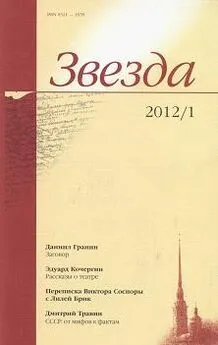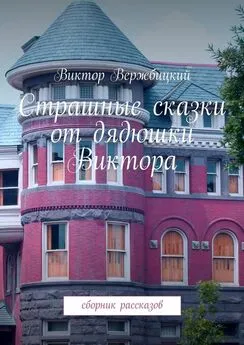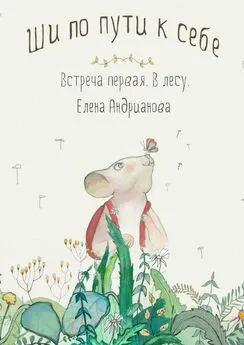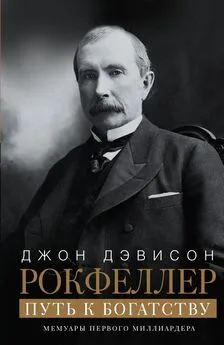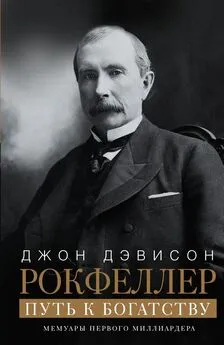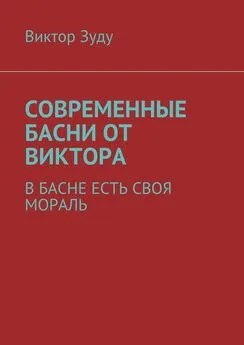Виктор Мозалевский - Тропинки, пути, встречи [Мемуары Виктора Мозалевского]
- Название:Тропинки, пути, встречи [Мемуары Виктора Мозалевского]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литературный факт: научный журнал: ИМЛИ РАН, №2,3
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:2541-8297
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Мозалевский - Тропинки, пути, встречи [Мемуары Виктора Мозалевского] краткое содержание
Цитирование: Соболев А. Л. Мемуары Виктора Мозалевского // Литературный факт. 2019. № 2, 3 (12). С. 99–144. DOI 10.22455/2541-8297-2019-12-99-144
Тропинки, пути, встречи [Мемуары Виктора Мозалевского] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Царское правительство зашвырнуло юношу революционера А. Соболя на каторгу за участие в революционном движении. С каторги он бежал, скитался по другим странам, попал во Францию и был рядовым французской пехоты, воюющей против «бошей» в 1914–1918 г. г. [235] Мозалевский ошибается: Соболь действительно был в 1906 г. осужден и в 1908 г. бежал с каторги (Там же. С. 58, 73), но во французской армии он, по всей вероятности, не служил (см.: Там же. С. 176).
В 1918 г. он возвратился в Россию, жил в Москве [236] В действительности Соболь вернулся в Россию в последние дни 1914 или первые — 1915 г. (до 3 января); см.: Там же. С. 177.
. Сохранились в памяти его рассказы «Пыль», «Салон — вагон», «Сирокко» [237] Роман «Пыль» напечатан: Русская мысль. 1915. № 1–4. Отд. изд.: М., 1916. «Салон вагон» — впервые в составе отдельного издания (вместе с повестью «Бред»): М., 1922. Пьеса «Сирокко», поставленная в 1928 г., уже после смерти автора (инсценировка В. Зака и Ю. Данцигера), имела в основе «Рассказ о голубом покое» Соболя.
. «Сирокко» был переделан в пьесу и несколько лет не сходил со сцены Камерного театра.
В творчестве Соболь продолжал (и успешно) великие традиции больших умных русских писателей Чехова, Куприна. Он писал о том, что видел, знал, перечувствовал, а главным героем его рассказов была та «правда», о которой говорил Л. Н. Толстой в «Севастопольских рассказах» [238] Подразумеваются финальные строки рассказа Л. Н. Толстого «Севастополь в мае»: «Герой же моей повести, которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен, — правда».
.
МОСКВА 1921–1928 г. ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ НАУК
В Москве на Пречистенке (ныне ул. Кропоткина) в здании б. Полива- новской гимназии с 1920-21 г. по 1929 или 30 г. существовала «Государственная Академия Художественных наук» [239] Государственная Академия Художественных наук была организована летом 1921 г. и закончила свое существование весной 1931 г.
.
Президентом ее был добрейший, весьма эрудированный, весьма скромный и доброжелательный человек профессор Петр Семенович Коган, над которым не раз в своих стихах (и, будем справедливы, без оснований) подтрунивал Маяковский [240] Петр Семенович Коган (1872–1932) в неизменно юмористическом контексте упоминается в стихотворениях Маяковского «Пятый интернационал», «Протестую!», «Тамара и демон» и «Сергею Есенину».
, не пощадивший, впрочем, ни Собинова [241] Леонид Витальевич Собинов (1872–1934) упоминается в стихотворениях Маяковского «Рабочим Курска, добывшим первую руду, временный памятник работы Владимира Маяковского» и «Сергею Есенину» (последнее значительно более известно).
, ни… Льва Толстого [242] Какое из весьма многочисленных упоминаний Толстого у Маяковского имеет в виду мемуарист — неясно; возможно, в стихотворении «Еще Петербург» («А с неба смотрела какая — то дрянь / величественно, как Лев Толстой»).
. Но П. С. Коган к этим ударам меча скорее картонного, чем железного, относился добродушно.
Вице — президентом был Густав Густавович Шпет, человек незаурядный, деятельный, шумный, сохранивший и к зрелым летам задорство буршей из гофманских рассказов, буршей, презирающих мещан — филистеров.
Я знал Густава Густавовича еще будучи студентом Университета (он был тогда приват — доцентом по кафедре философии). Знал и позже [243] Среди прочего, Мозалевский был знаком со Шпетом по редакции машинописного журнала «Гермес»; см., в частности, письмо Б. В. Горнунга к Г. Г. Шпету от 23 августа 1925 г.: ГорнунгБ. Поход времени: Статьи и эссе. М., 2001. С. 325.
. Но мои воспоминания бледны, и я верю, что кто — то другой, знавший Г. Г. лучше и полнее, напишет и биографию, и воспоминания об этом человеке, об его философских опытах, об его заблуждениях, если они в нем были…
Членом Академии я не был, но в указателе писателей, литераторов, поэтов, изданных ГАХН в 1925 г., был помещен и я, правда, составитель напутал что — то с моей библиографией и биографией и сделал меня «польского происхождения», хотя следовало бы просто написать — «русский» [244] Подразумевается биографическая справка, помещенная в справочнике: Писатели современной эпохи: Био — библиографический словарь русских писателей ХХ века. Т. 1 / Ред. Б. П. Козьмина. М., 1928. С. 185–186. Автором этой заметки был Д. С. Усов, что следует из его недатированного (зима 1926) письма к Е. Архиппову (см.: Усов Д. С. «Мы сведены почти на нет…» Т. 2: Письма / Сост., подгот. текста, коммент. и вступ. ст. Т. Ф. Нешумовой. М., 2011. С. 372).
.
Время от времени я получал из ГАХН приглашения на доклады, лекции, концерты. Впервые я познакомился там с музыкой Дмитрия Кабалевского (играл и сам композитор).
Умер в 1922 г. М. Гершензон, литературовед, автор интереснейшей книги «Грибоедовская Москва», и тело его покоилось в большом зале ГАХН, звучала “lacrimosa” из Реквиема Моцарта (хор и оркестр ГАХН) [245] Михаил Осипович Гершензон умер в четверг 19 февраля 1925 г. В пятницу и субботу тело его оставалось дома; в воскресенье, 22‑го, состоялась панихида в ГАХН и сразу за ней похороны.
.
Какая — то полная старая дама истерически возвестила, что Гершензон был целомудренным борцом за настоящую литературную правду [246] Этой дамой была Александра Николаевна Чеботаревская (1869–1925). Дочь Гершензона вспоминала, что ее выступление «носило совершенно ненормальноистерический характер» (Гершензон — Чегодаева Н. М. Первые шаги жизненного пути (воспоминания дочери Михаила Гершензона). М., 2000. С. 263). Подробнее о нем рассказывал другой свидетель: «К гробу подошла А. Н. Чеботаревская. Ее глаза болезненно блуждали; в голосе слышался надрыв, в словах чувствовалась истерика. От пристального наблюдателя и внимательного слушателя уже тогда не могли ускользнуть в речи А. Н. намечающиеся признаки психического расстройства и явные симптомы приближающегося религиозного помешательства. Здесь говорили о том, — так начала свою речь А. Н., — чему служил покойный Михаил Осипович, кого он любил, каких поэтов он предпочитал. Я скажу, что он служил одному Богу, любил и предпочитал только Бога. И мы должны следовать его примеру. Так жить, как мы живем, нельзя, так жить нельзя» и т. д. (Соболев А. Л. Из воспоминаний С. Г. Кара — Мурзы. Ч. 1 // Литературный факт. 2017. № 4. С. 118–119).
.
А бедный Гершензон в гробу — маленький, смиренный, так не напоминал «борца»!
В «кулуарах» в 1923-24 гг. шумел Андрей Белый, в сюртуке черном, что — то кому — то доказывал. Я часто прислушивался к его речам, но язык Белого был непонятен: то была пора, когда он писал романы «Москва под ударом», «Московский чудак», а там попадались совершенно «непереводимые» на русский язык слова и фразы вроде «мизикало утро» и др. [247] «Скупо мизикало утро» — фраза из романа «Москва» (БелыйА. Москва: Роман. Часть первая. М., 1928. С. 59). Вопреки мнению мемуариста, это словоупотребление вполне легитимно: по Далю, «мизикать» на оренбургском диалекте означает «издавать слабый свет, мерцать».
'
Интервал:
Закладка:
![Обложка книги Виктор Мозалевский - Тропинки, пути, встречи [Мемуары Виктора Мозалевского]](/books/1068741/viktor-mozalevskij-tropinki-puti-vstrechi-memuar.webp)