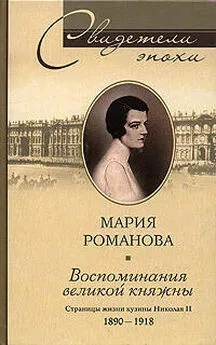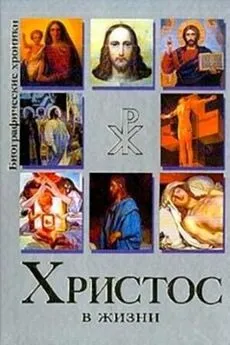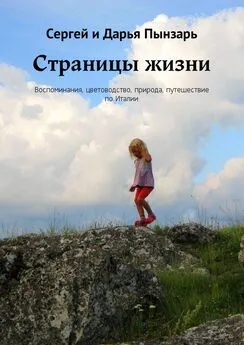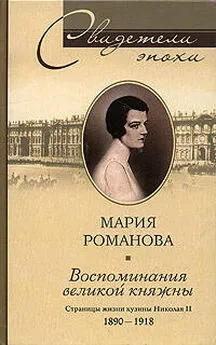Пётр Бартенев - О Пушкине: Страницы жизни поэта. Воспоминания современников
- Название:О Пушкине: Страницы жизни поэта. Воспоминания современников
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советская Россия
- Год:1992
- Город:Москва
- ISBN:5—268—00775—0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Пётр Бартенев - О Пушкине: Страницы жизни поэта. Воспоминания современников краткое содержание
В сборник включены как основные сочинения Бартенева о Пушкине, так и отдельные заметки, разбросанные по страницам «Русского Архива», наиболее значительные из собранных им в разные годы материалов.
Для детей старшего школьного возраста. Составитель, автор вступительной статьи и примечаний Аркадий Моисеевич Гордин
Рецензент — доктор филологических наук Р. В. Иезуитова
lenok555
мной
О Пушкине: Страницы жизни поэта. Воспоминания современников - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Примечания
«РА». 1864. № 2. Стб. 192—197.
Заметка о Пушкине
На странице 96-й Русского Архивасего года сообщено мною неточное сведение о приезде Пушкина в Москву в 1826 г., во время праздников по случаю коронования императора Николая. Пушкин был привезён во дворец (в какой, Кремлёвский или на дачу гр. Орловой, нынешнюю Александрию, где некогда жил Государь, как видно из Северной Пчелы 1826 г.?) [527]действительно 8 сентября, в день большого бала, не у герцога Девонширского, а у герцога Рагузинского, маршала Мармона, королевско-французского посла, помещавшегося на Старой Басманной, в доме кн. Куракина, где ныне Межевой корпус. Поблизости, на Басманной же, жил в своём доме дядя поэта Василий Львович Пушкин, к которому Александр Сергеевич и приехал прямо из дворца, так как родителей его, Сергея Львовича и Надежды Осиповны, в то время не было в Москве. Весть о возвращении Пушкина, об этом высоком и знаменательном на ту пору деле царской милости, облетела многочисленных гостей герцога Мармона и с бала радостно разнеслась по Москве [528]. Один из давних приятелей поэта тотчас же из дому кн. Куракина отправился в дом Василия Львовича и застал Пушкина за ужином. Тут же, ещё в дорожном платье, Пушкин поручил ему на завтрашнее утро съездить к известному американцу графу Толстому с вызовом на поединок. К счастью, дело уладилось: графа Толстого не случилось в Москве, а впоследствии противников помирили [529].
Ещё прежде, чем у Веневитиновых, Пушкин читал своего Борисау С. А. Соболевского (у которого вскоре потом поселился на Собачьей Площадке, в угольном флигеле нынешнего дома Левенталя). На этом первом чтении кроме хозяина были: П. Я. Чаадаев, Д. В. Веневитинов, гр. М. Ю. Виельгорский и молодой И. В. Киреевский [530]. Вообще же Пушкин чрезвычайно редко читал свои произведения в большом обществе, отличаясь в этом отношении поучительною скромностью и даже застенчивостию. Он читал только людям более или менее близким, мнением которых дорожил и от которых надеялся услышать какое-либо дельное замечание, а не безусловную похвалу, и притом читал как-нибудь невзначай. Посему А. Ф. Писемский при следующих изданиях своего Взбаламученного Морямог бы опустить начало 7-й главы, пятой части, где говорится, будто «великий Пушкин ехал читать в великосветские салоны».
Примечания
«РА». 1865. № 3. Об. 390—391.
Примечание к публикации «Переезды с Александром Гумбольдтом по Сибири (1829)» [531]
Пушкин, встречавшийся с ним <���Гумбольдтом> в Петербурге, сказал про него одной даме: «Не правда ли, что Гумбольдт похож на тех мраморных львов, что бывают на фонтанах. Увлекательные речи так и бьют у него изо рта».
Примечания
Частное письмо. Автор — адъютант при генерале Вельяминове.
«РА». 1865. № 7. Стб. 1028.
Из рукописей А. С. Пушкина
Три неизданные стихотворения и первоначальная рукопись одного печатного стихотворения.
В императорской С. Петербургской публичной библиотеке хранится собственноручная тетрадь Пушкина, заведённая им на Кавказе 15-го Июня 1820-го года и заключающая в себе, сверх чернового наброска Кавказского Пленника, разные мелкие стихотворения, относящиеся к 1820 и 1821 годам [532]. Приводим из неё следующие четыре пьесы, помещённые сразу одна за другою:
1
Эпиграмма
Хаврониос! ругатель закоснелый,
Во тьме, в пыли, в презреньи поседелый,
Уймись, дружок! К чему журнальный шум,
И пасквилей томительная тупость?
Затейник зол, с улыбкой скажет Глупость;
Невежда глуп, зевая скажет ум.
2
Когда б писать ты начал сдуру,
Тогда б наверно ты пролез
Сквозь нашу тесную цензуру,
Как внидешь в царствие небес.
3
Как брань тебе не надоела?
Расчёт короток мой с тобой:
Ну так, я празден, я без дела,
Но ты бездельник деловой.
4
Эпиграмма
В жизни мрачной и презренной
Был он долго погружён;
Долго все конца вселенной
Осквернял развратом он.
Но исправясь понемногу,
Он загладил свой позор,
И теперь он — слава Богу —
Только что картёжный вор.
Пьесы эти, судя по месту, занимаемому ими в тетради, писаны в конце 1820-го или в начале 1821-го года, из них одна третья известна в печати.
В той же тетради помещена Элегия: «Увы! зачем она блистает» с разными вариантами противу печатного текста. Вот рукописная редакция:
Юрзуф
Увы! зачем она блистает
Минутной, нежной красотой?
Она приметно увядает
Во цвете юности живой.
Недолго жизнью молодою
Беспечно наслаждаться ей,
Недолго радовать собою
Несчастной матери своей…
Недолго милой остротою
Беседы наши услаждать
И тихой, ясною душою
Больную душу оживлять.
Спешу с волненьем дум тяжёлых,
Сокрыв уныние моё,
Наслушаться речей весёлых
И наглядеться на неё…
Смотрю на все её движенья,
Внимаю каждый звук речей,
И краткий миг уединенья
Несносен для любви моей.
Эта редакция, по всей вероятности,— первоначальная.
(Доставлено П. П. Вилинским) [533]
Из Русалки
Разговор новобрачной с няней
Княгиня, княгинюшка,
Дитя моё милое.
Что сидишь невесело,
Головку повесила?
Ты не весь головушку, не печаль меня, старую,
Свою няню любимую.
— Ах, нянюшка, нянюшка, милая моя —
Как мне не тужить, как весёлой быть?
Как была я в девицах, муж любил меня,
Вышла за него, разлюбил меня.
Бывало, дружок мой супротив меня сидит,
Сидит целый день и с места не идёт,
Сидит да глядит, не смигивает.
А нынче дружок мой, ни свет ни заря,
Разбудит меня да сам на коня.
Весь день по гостям разгуливает,
Приедет, не молвит словечушка мне
Он ласкового, приветливого.
— Дитя моё, дитятко, не плачь, не тужи,
Не плачь, не тужи, сама рассуди:
Удал добрый молодец что вольный петух —
Мах-мах крылом, запел, полетел;
А красная девица что наседочка,
Сиди да сиди, цыплят выводи.
— Уж нет ли у него зазнобы какой?
Уж нет ли на меня разлучницы?
— Полно, ты, милая, сама рассуди:
Ты всем-то взяла, всем-то хороша,
Красотой, умом-разумом,
Тихим, ласковым обычаем,
Лебединою походочкой,
Соловьиной поговорочкой [534].
Из черновой рукописи примечаний к Онегину.
Кто-то спрашивал у старушки: по страсти ли, бабушка, вышла замуж?
«По страсти, родимый,— отвечала она:— прикащик и староста обещались меня до полусмерти прибить». В старину свадьбы, как суды, обыкновенно были пристрастны [535].
№№ II и III списаны с подлинников, хранящихся у А. С. Норова, и обязательно сообщены нам академиком Я. К. Гротом.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: