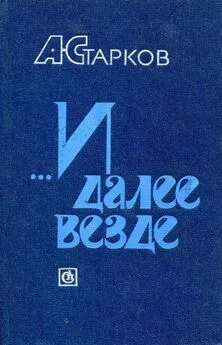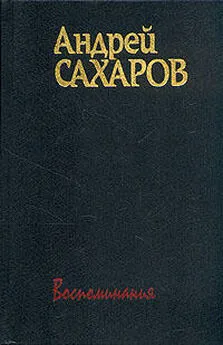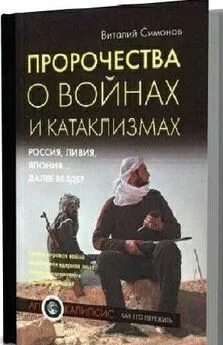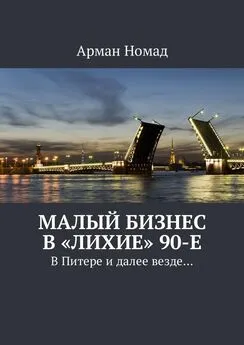Абрам Старков - ...И далее везде
- Название:...И далее везде
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1985
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Абрам Старков - ...И далее везде краткое содержание
А. Старков прожил интересную жизнь, полную событиями и кипучей деятельностью. Он был журналистом, моряком-полярником. Встречался с такими известными людьми, как И. Папанин. М. Белоусов, О. Берггольц, П. Дыбенко, и многими другими. Все его воспоминания основаны на достоверном материале.
...И далее везде - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Шофер вернулся. Он приволок неизвестно где разысканные им широкие грузовые сани, на которые вкатили вертолет. Но они его тяжести не выдержали, развалились. И пришлось буксировать без их помощи. Дорогу уже так занесло, замело снегом, что грузовику и в одиночку-то еле пробиться. А имея на буксире очень ловкий в небе и неуклюжий в пешем строю «МИ», он буксовал с ним через каждые 10—15 метров, прочно и надолго застревая. Рвались канаты, вертолет то и дело клало на бок, заваливало в сторону. Двое суток промыкались, промучились в степи, пока не дотащили его до полустанка, под укрытие. Это было уже утром 31 декабря. Инна с мотористом, с инженером-приемщиком поспевала на базу к встрече Нового года. Хотела пригласить и шофера. Но опоздала, не услышала, как он завел мотор и дал газу… За двое суток она так и не разглядела его лица из-за мохнатой ушанки, которую он не снимал, и не запомнила его голоса, поскольку он за все это время произнес семь или восемь слов и то уж по самой необходимости, когда совсем заедало с буксировкой. Кто он, откуда? Назвался Ромкой, и на том сведения о себе ограничил. Она его никогда больше не встречала в этих местах. Наверно, из далеких командировочных шоферов, судя по бортовому номеру, из иркутской автоколонны, развозившей трубы по строящейся трассе. Закончил командировку, рейсовые задания выполнил, спешил домой к Новому году. Людей встретил в степи, попавших с вертолетом в беду, помог им, как полагается, обычное дело, и укатил…
…Перечитал я про шофера и удивился, как это удалось мне вытянуть из Инны такой длинный эпизод. Видно, потому, что про шофера, про другого человека. Могла бы, впрочем, и о себе, скромность тут ни при чем, просто некогда. Некогда! У нас ведь с ней как получается? Она хоть и приписана теперь к московскому авиаотряду, но только приписана, бывает редко, летая по-прежнему далеко от Москвы, даже дальше, чем прежде: в Сибири она раньше не бывала. А нынче и в Якутию заносит. И мы видимся урывками, а чаще и не видимся, говорим по телефону, и это всегда неожиданно для меня. Внезапный звонок:
— Здрасьте! Прилетела…
— Здрасьте! Надолго?
— Думала, денька на три…
— И что же?
— Не получается. Завтра вылет. Машину надо срочно перегнать на Мангышлак… Я быстренько вернусь. И мы с вами в Воздушную академию съездим…
— А что такое?
— Я слышала, человек там есть, который с Иваном Ивановичем до последней минуты был вместе… Если не улечу завтра, ждите звонка, съездим…
Не позвонила. Улетела.
И вдруг телеграмма. Не с Мангышлака, уже с другого конца страны, «из Нефтеюганска пролетом»:
«Непременно разыщите книгу генерала Рытова название рыцари пятого океана страницы сто пятая сто шестая приветом Инна».
Из мемуаров генерал-полковника авиации А. Г. Рытова, который во время финской войны был комиссаром у Ивана Ивановича, командовавшего воздушной армией на Карельском перешейке:
«…в трудную минуту я всегда находил у Ивана Ивановича сочувствие и поддержку. Человек он по складу характера был молчаливый, но отзывчивый, сердечный. В его дружбе можно было не сомневаться.
О храбром человеке иногда говорят: он не знает страха в борьбе. Эту поговорку можно было отнести без всяких колебаний и к Ивану Ивановичу. Мне не раз приходилось его упрашивать, когда он без особой надобности вылетал на боевые задания:
— Ну зачем ты рискуешь? Разве без тебя не найдется кому слетать на разведку? Ты же командующий, а не комэск.
А он посмотрит этак осуждающе, махнет рукой и пойдет на взлет. В этом человеке жила какая-то неистребимая страсть быть все время в боевом напряжении, идти навстречу опасности. И если ему по каким-то причинам приходилось оставаться на земле — он просто не находил себе места. Это не было рисовкой или стремлением показать свою отвагу. Такой уж характер у человека.
Герой Советского Союза Иван Иванович Копец воевал в Испании, быстро продвинулся по служебной лестнице. Но в душе он оставался рядовым храбрым бойцом, для которого схватка с врагом в небе была лучшей отрадой.
В канун Отечественной войны Копец командовал военно-воздушными силами Белорусского военного округа. Мне рассказывали: когда фашисты в первый день наступления нанесли массированный удар по аэродромам, Копец сел в самолет и решил посмотреть, что с ними сталось. Потери оказались огромные. И старый честный солдат не выдержал. Он вернулся в штаб, закрылся в кабинете и застрелился…
Сейчас можно о нем говорить всякое: и малодушие проявил, и веру, мол, потерял. Не знаю. В одном я твердо убежден: сделал он это не из трусости».
С Сергеем Ивановичем, встретившись через тридцать лет в Москве, мы почти не затрагивали в разговоре последней, трагической страницы жизни его брата. Только раз, показывая старые фотографии и среди них снимок, на котором они вдвоем, совсем молодые, но один уже летчик, другой — моряк, похожие, как я уже говорил, до родимого пятнышка у виска, он сказал печально про эту родинку у Ивана:
— Для будущей пули…
Заключительные страницы этого повествования заполнит Нина Павловна, вдова генерала. Она живет, как и до войны, в Минске. Мы давно в переписке (нас свела, познакомила заново тоже Инна), но так сложилось, что она, наша переписка, пошла как бы поверху, это были в основном открытки к праздникам, к памятным датам. Я долго не мог переступить через некую незримую черту, приближался к ней, отступал и лишь недавно, начав эту главу об Иване Ивановиче, решился задать несколько вопросов Нине Павловне, заранее готовый смириться с тем, что она их отвергнет. Так, собственно, и получилось, если судить по первым строкам ее ответного письма. Но затем, преодолев болевой порог и подталкиваемое всё нарастающим внутренним желанием излить, выплеснуть то, что долгие годы отягощало душу, ее перо потянуло строку за строкой, строку за строкой, и уже не хватило одного письма, потребовались второе, третье, четвертое… И мне бессмысленно пытаться пересказать их, подбирая слова-дубликаты, которые, как бы я ни изощрялся, все равно дубликатами, чем-то вторичным и останутся. Единственную вольность разрешу себе: представить читателю письма Нины Павловны как единое письмо. Да и не так уж велика эта вольность: они, ее письма, хотя и отсылались с интервалами в несколько дней, и есть такое единое послание, единый вскрик души. Перебивать его, расчленяя, так же бессмысленно, как и пересказывать.
«…Тяжеленькую задачу Вы мне задали! Не знаю, хватит ли мне сил справиться с ней. Думаю, не хватит потому, что я
1. не люблю писать;
2. неважно себя чувствую;
3. не люблю воспоминаний, гоню их от себя, слишком много боли и горечи они вызывают. Казалось бы, что́ уж — давно прошло, мохом поросло… но, «как вино — печаль минувших дней в моей душе, чем старе, тем сильней».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: