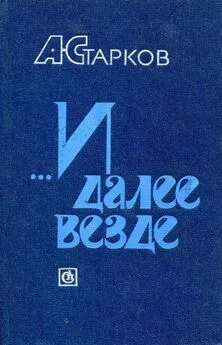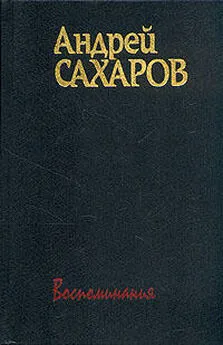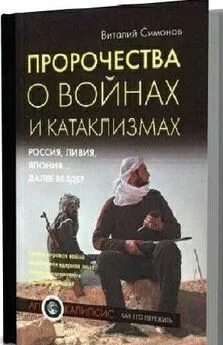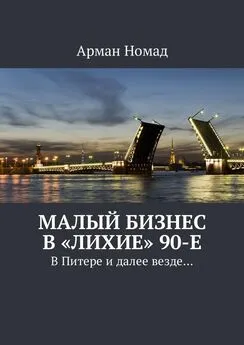Абрам Старков - ...И далее везде
- Название:...И далее везде
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1985
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Абрам Старков - ...И далее везде краткое содержание
А. Старков прожил интересную жизнь, полную событиями и кипучей деятельностью. Он был журналистом, моряком-полярником. Встречался с такими известными людьми, как И. Папанин. М. Белоусов, О. Берггольц, П. Дыбенко, и многими другими. Все его воспоминания основаны на достоверном материале.
...И далее везде - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
(В составе PQ-18, примерно через год после PQ-3, отправился из Исландии пароход «Сталинград», на который мы с Сахаровым были переведены с «Сибирякова». Но в этом плавании меня не было: я был мобилизован и назначен комиссаром сторожевого корабля № 20, который как раз и встречал PQ-18 уже в Белом море. В пути, возле острова Медвежий, конвой подвергся нападению немецких самолетов и подводных лодок, половина судов — а их было около сорока — потоплена, в том числе и «Сталинград». Торпеда попала ему в машинное отделение, в бункера с углем. Судно держалось на плаву четыре минуты, Сахарова сбросило в море с капитанского мостика, он выплыл и был подобран на плотах с английского спасателя «Капленд». Помполит Саша Федоров, некоторое время назад сменивший меня в этой должности, кинулся в свою каюту спасать секретные документы, шифр, а выбраться на палубу не смог — дверь каюты заклинило…)
Караван PQ-3 застрял на Березовом баре, нависла угроза зимовки на мели, и нас поспешно вытолкали спасать его изо льдов. Конвой — это торговые суда в сопровождении, под охраной военных. Во главе эскорта шел английский крейсер, не помню точно его названия, «Кинг…», а какой король, запамятовал. Командир крейсера, человек осторожный, привел его к ледовой кромке и, оставаясь на чистой воде, дальше не двинулся, отпустив конвоируемые транспорта вперед, во льды. Прежде чем начать обкалывать беспомощные суда, мы направились к крейсеру; он звал, сигналил. Приблизились в темноте, осветили его прожектором, он — нас, а затем, соединившись лучами, соединились и трапом, переброшенным с крейсера, сверху вниз. Я занял пост возле трапа, рядом с вахтенным, а рядом со мной — молоденькая переводчица Наташа, то ли Кириенко, то ли Корниенко, студентка, только что приехавшая из Москвы. На другом конце трапа возникла долговязая фигура в длинном дождевике с капюшоном (я подумал — легко одет), закрывавшим от меня его лицо. Похоже, офицер связи. Наташа приготовилась переводить. И вдруг раздались ясные, чистые, без малейшего акцента русские слова. Но не было в них и стерильной правильности, которая выдает иностранца, очень уж старающегося безукоризненно выговорить каждое слово.
— Я могу видеть капитана вашего ледокола?
— Капитан на мостике и спуститься в данный момент не может, — сказал я. — Я его помощник. С кем имею честь?..
— Громов, — сказал человек, и эта фамилия попервоначалу не соединилась в моем сознании ни с какой из знакомых мне личностей. Я переспросил:
— Громов? Вы советский?
— Михаил Михайлович Громов, — сказал он чуть с нажимом, и я бросился вверх по трапу, тут уж мгновенно сообразив, кто передо мной. — А это мои товарищи, — он показал на стоявших у него за спиной мужчин в таких же черных плащах с капюшонами, — летчики Байдуков, Юмашев, Гордиенко, Леонченко… Мы возвращаемся из Америки. Разрешите перейти к вам на борт.
Еще спускаясь по трапу, шедший за Громовым Байдуков спросил, нет, не спросил, выдохнул:
— Москва?.. Мы ничего не знаем о Москве…
— Стоит на месте! — сказал я.
— Я вчера из Москвы, — сказала Наташа и повторила это громко по-английски, чтобы услышали на крейсере.
— Молодец, девочка, — сказал Байдуков. — Пусть знают. В эфире такая неразбериха, такая путаница про Москву. А и из самой Москвы мы радио неделю не слыхали…
— Прекрасно! — сказал Громов.
Они улетали из Москвы в начале июля с особой миссией в Америку: отобрать на авиазаводах необходимые типы самолетов для закупки.
«Сибиряков» выводил караван из ледового поля двое суток. Пилотов мы разобрали на это время по каютам. У меня жил, пока мы шли в Архангельск, Георгий Филиппович Байдуков, из чкаловского экипажа. Перечитал все газеты, все радиосводки, расспрашивал, расспрашивал. Как-то зашел в каюту майор Леонченко. Из пятерых он один уже побывал а боях. В Финляндии, Героя там получил.
— Я служил в авиации Восьмой армии, — сказал он. — Хочу в нее вернуться.
— В Восьмой? — переспросил я. — Командующим у вас был генерал Копец?
— Копец, — сказал Леонченко. — Ух и мужик! В штабе подолгу не сидел — летал…
Я таил в себе печальную весть, ни с кем ею не делился, в надежде, что она неверна, хотя ни разу за всю войну не слышал и не встречал в печати имени генерала: он исчез. Лишь после войны, вернувшись в Ленинград, я спросил у Моти Фролова, с которым мы «пытали» в свое время Ивана Ивановича, что он знает о нем и его судьбе.
— Ты помнишь Ерлыкина? — сказал Матвей. — Летчика, с которым Копец познакомил нас однажды?
— В лектории на Литейном? Помню. Копец, еще полковником, выступал перед комсомольцами, мы его записывали и после выступления продолжали расспрашивать. А этот красавчик майор с двумя орденами Красного Знамени, пришедший с ним, шутливо, но довольно энергично отжимал нас от Ивана Ивановича, приговаривая: «Хватит приставать к человеку, мы с Ваней в ресторацию опаздываем, столик заказан…» А тот ему в тон: «Не трепись, Женя, не обрисовывай меня перед журналистами выпивохой, мы с ними делом заняты, подожди…» Помню Ерлыкина, как же. Они вместе сражались над Мадридом, в одной эскадрилье. Ерлыкин это ведь Хазар из «испанского письма», тот, что к «хейнкелям» пристроился невзначай…
— Точно. А в блокаду командовал здесь корпусом ПВО, истребителями. Как воздушный бой над Ленинградом или на подступах, все говорили: «Ерлыкин в небе!» Имея в виду весь корпус, ерлыкинцев. Генерал, Герой Советского Союза. Я часто бывал у него в штабе. Как-то решился, спрашиваю, вот как ты меня, про Ивана Ивановича. Вздохнул глубоко, выдохнул чуть не со стоном, промолчал…
И вот лет пятнадцать назад, а может, немного и раньше начали появляться книги, воспоминания «испанцев», советских добровольцев, волонтеров, воевавших на Пиренеях, — летчиков, танкистов, артиллеристов, моряков, саперов, переводчиков. Теперь уже отпала нужда в псевдонимах, в «звездочках», в камуфляже; все пошло, так сказать, открытым текстом. В мемуарах генералов авиации Гусева, Прокофьева, Пузейкина (в Испании они были лейтенантами), в книгах Шингарева «Чатос идут в атаку» («чатос» — «курносыми» называли испанцы наши истребители «И-15») и Зильмановича «На орбите большой жизни», посвященной главному авиационному советнику в Испании дважды Герою Советского Союза Я. В. Смушкевичу, «генералу Дугласу», замелькало имя — Иван Копец. Описания боевых эпизодов, в которых он участвовал как командно истребительной группы капитан Хосе, совпадают с напечатанным в «Искорках» письмом «капитана ***». Только в них, в этих современных описаниях, сохранены эпитеты и характеристики, вычеркнутые Иваном Ивановичем — «храбрый Хосе», «мастер пилотажа», «орлиное зрение», «горячий, упорный», и добавлено еще немало им подобных. В книгах, названных мною, да и в других, воспроизведена фотография молодого полковника с орденами Ленина и Красного Знамени, с «крылышками» в петлицах, с портупеей через плечо, та самая, что когда-то и мы опубликовали в очерке «Из жизни летчика».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: