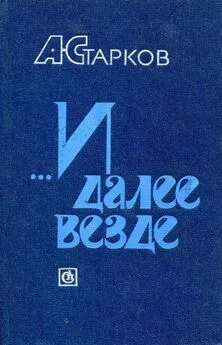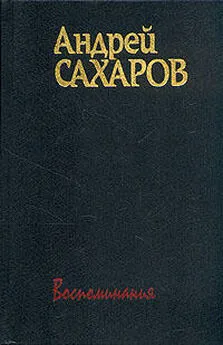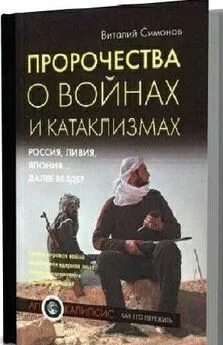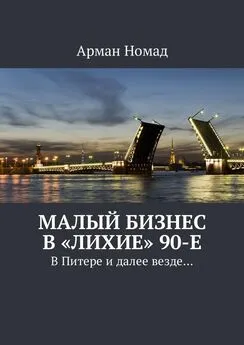Абрам Старков - ...И далее везде
- Название:...И далее везде
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1985
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Абрам Старков - ...И далее везде краткое содержание
А. Старков прожил интересную жизнь, полную событиями и кипучей деятельностью. Он был журналистом, моряком-полярником. Встречался с такими известными людьми, как И. Папанин. М. Белоусов, О. Берггольц, П. Дыбенко, и многими другими. Все его воспоминания основаны на достоверном материале.
...И далее везде - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Сражение кончилось. Враг опять отброшен от Мадрида. Мы идем на посадку. Нас нагоняет еще одна машина. Это Хазар. Мы думали, что он погиб. На аэродроме он рассказал: «Я, говорит, залез во время драки в облачность, побродил немного, а когда вышел, смотрю нет никого, только далеко в стороне группа машин. Я прибавил скорости, пошел вдогонку, подстроился, лечу, и — о ужас! — справа «хейнкель» и впереди «хейнкель». Хороши соседи! Что делать? Продолжаю лететь в строю, пока не разобрались, потом резко переворачиваюсь — и назад. Они заметили этот маневр, двое погнались за мной. Я ушел».
Вечером нам сообщили, что на соседний аэродром приземлился Пабло. Он ухитрился доползти и сесть с пробитыми баками — и масляным и бензиновым, с перебитым газоуправлением. А ранним утром на другой машине снова вылетел вместе с нами по тревоге к Мадриду. Он всегда впереди, безудержно храбрый, всегда на острие атаки. И опять ему перебили стабилизатор. Самолет — в штопор. Нужно покидать кабину, а скорость — 300 километров, ветер придавливает к сиденью, мешает приподняться. Пабло, сидя, дергает кольцо парашюта. Выбросило из машины, подкинуло метров на сто вверх. Затем он стал плавно спускаться. И упал на одну из центральных улиц Мадрида. Толпа подхватила Пабло на руки. Парашют растащили на куски, себе на память. Шоферы спорили, каждому хотелось посадить летчика в свой автомобиль. Но толпа не выпустила его с рук. Так и несли через город — в военное министерство. Там его встретил сам министр, генерал Миаха. Он поцеловал Пабло.
Тем временем на фронт вылетела еще одна группа истребителей, которых вел Педро. Среди них были уже известные вам Хосе, Хазар и Хулио. Замыкал группу молодой летчик Рой. Хосе, шедший сбоку, вдруг отстал, изменил курс. У Хосе орлиное зрение (вычеркнуто. — А. С. ). Он увидел трех фашистов, атаковавших в стороне республиканский самолет. Метод у них обычный: двое снизу, один сверху прижимает. Республиканец оказался в «коробке». Хосе ворвался в бой. Этому трудно поверить, но трех пулеметных очередей оказалось достаточно, чтобы одного «хейнкеля» сразу сбить, второго обратить в бегство, третьего ранить, а при попытке его удрать — прикончить в погоне. Хосе горяч и упорен, он никогда не отпускает врага, пока не добьет. (Эта фраза также перечеркнута рукой Ивана Ивановича. — А. С. ) А Педро вел свой отряд дальше. Он понимал, что Хосе ушел не зря и вернется вовремя. Четыре летчика — Педро, Хазар, Хулио и Рой — вступили в общее сражение, разыгравшееся над городом. В этом бою погиб Рой, молодой коммунист из Каталонии. Он хорошо сражался. Он храбро сражался.
Мы мстили за него в боях.
(Перевод с испанского)».На последней машинописной страничке внизу стоит виза, роспись: «И. Копец. 28.10.37». И рядом латинскими буквами «José», Хосе. Вот почему автор «письма из Испании» в своей правке всячески снижал, так сказать, характеристику республиканского летчика Хосе — это был он сам, Иван Иванович Копец.
Генерал Копец во время короткой войны на Карельском перешейке командовал авиацией 8-й армии, а затем его назначили командующим ВВС Западного особого военного округа со штабом в Минске. Здесь он и встретил Отечественную, длившуюся для него сутки…
О гибели генерала я узнал случайно при обстоятельствах, о которых стоит рассказать, хотя это и уведет в сторону мое повествование, как это уже случалось и не раз еще случится, за что читатель, надеюсь, меня простит. Сюжет из жизни и следующий жизни не может, как и она, обойтись без зигзагов, без рывков и торможений.
Осенью 1941 года, перед тем как уйти в военный флот, я дослуживал «гражданку», плавая на ледокольном пароходе «Александр Сибиряков» помощником капитана по политической части, помполитом. Сейчас эта должность значится по судовой роли, списочному составу экипажа, как первый помощник капитана. Но суть и функции не изменились. Кое-кто из морячков-острячков незлобиво, не ради унижения, просто ради красного словца прозывал нашего брата — «помполлитра». Мой приятель Савва Морозов, полярный Пимен-летописец, и нынче нет-нет да и брякнет по телефону: «Как живешь, старик помполлитра?» Не обижаюсь…
Капитаном «Сибирякова» в мою пору был Анатолий Николаевич Сахаров, первостатейный ледовый мореход-архангелогородец, сын капитана седовского «Святого Фоки», который капитаном стал без диплома, уже в море, во льдах. Он пошел в поход с Седовым вахтенным штурманом. Да и штурман был недальнего, каботажного плавания, из поморов. Ходил прежде неподалеку на малых рыболовных суденышках. А тут беда: струсил, сбежал с судна капитан Захаров, и Седов рискнул, — что было делать? — назначил на его место Сахарова. Не ошибся. Справился Николай Иванович, не без помощи, понятно, Седова, выпускника Ростовской мореходки. А после гибели Седова прошедший его школу Сахаров провел «Фоку» сквозь льды в Архангельск, в последние дни совершенно не имея продовольствия на борту, подчистую выскребая остатки угля в бункере. В 1920 году он уже бывалым капитаном повел пароход «Илью» в составе 1-й Карской экспедиции за хлебом из Сибири — это было задание Ленина — и доставил тогда в Архангельск «523,6 пудов зерна», как записано в судовом журнале.
Сын, закончивший кроме мореходки Академию водного транспорта, унаследовал от отца все его личные профессиональные качества, в том числе и пристрастие к возлияниям. Но, как и у отца, это влечение возникало у Сахарова лишь в порту приписки, в Архангельске, дома. Никогда ни в море, ни в портах захода, ни на промежуточных стоянках я не видел и не мог увидеть капитана прикладывающимся к рюмашке. А когда в ту первую военную осень, в самом конце октября, мы возвратились из арктической навигации, он и пригубить-то не успел, потому что, едва ошвартовавшись у причала на Бакарице, получили приказ взять воду, уголь, продукты и незамедлительно снова идти в море, точнее сказать, в широкое устье Двины, на Березовый бар. Не ведаю уж, почему его, то есть ее, — бар — это постоянная гигантская отмель — назвали столь нежно; место неуютное для кораблей, немало их сидело тут на камнях, и редкостный капитан решится следовать на этом участке без лоцмана. Сахаров-то в нем не нуждался, он сам ходил здесь несколько лет лоцманом и знал Березовый бар лучше, чем собственный дворик на Поморской улице… Возвращаясь с моря, мы встретили на баре лед, нам он был не страшен, поскольку «Сибиряков» пароход ледокольный с дополнительной обшивкой корпуса. Но сейчас к бару подошел караван судов, для плавания во льду (а нагрянувшие морозы прибавили ему крепости) совершенно неприспособленных. Это был один из первых союзных конвоев, кажется, третий по счету, доставлявших грузы из США и Англии, — PQ-3. Такое наименование, такой код, PQ или QP (в зависимости от того, на восток или на запад шли суда), с прибавкой порядкового номера, носили эти морские операции. Я долго не мог узнать, откуда взялся этот шифр, эта аббревиатура, вошедшая в военно-морскую историю. И лишь недавно вычитал в воспоминаниях К. Бадигина «На морских дорогах» следующее объяснение, заимствованное им у английского историка Д. Ирвинга. В оперативном управлении великобританского адмиралтейства, ведавшем планированием конвоев на севере, служил офицер P. Q. Edwards; его инициалы и решили почему-то использовать в качестве кода, обессмертив тем самым ничем не примечательного служаку.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: