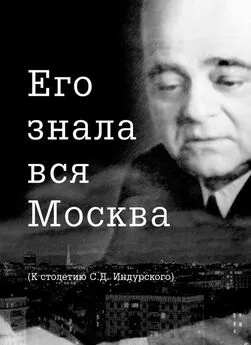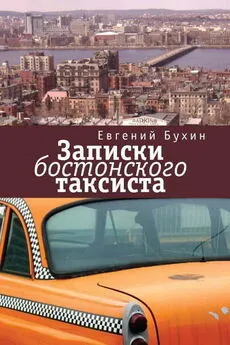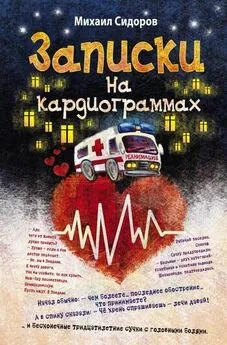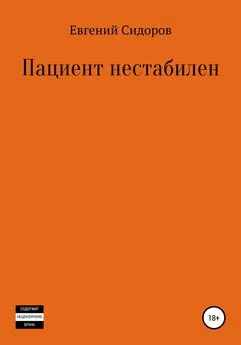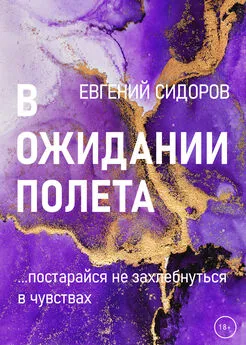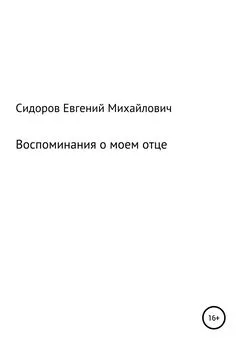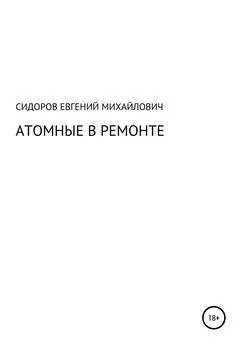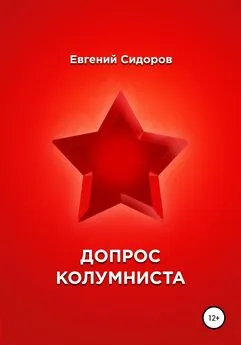Евгений Сидоров - Записки из-под полы
- Название:Записки из-под полы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Сидоров - Записки из-под полы краткое содержание
(из новой книги)
Об авторе: Евгений Юрьевич Сидоров (1938 г.р.) — литературный критик. Министр культуры Российской Федерации (1992—1998), Посол России при ЮНЕСКО (1998—2002), профессор Литературного института им. А.М. Горького. Автор книг и статей о советской многонациональной литературе, кино и театре.
Не фига в кармане, не записки из подполья, а именно из-под полы.
Как мелочь сыплется наружу из нечаянно продырявленного кармана плаща.
Возвращаю известному словесному обороту буквальный смысл, вопреки переносному, общепринятому.
Это не отрывки из дневника, не эссеистские размышления, а именно записки. Что вспомнилось, то и записалось, а потом собралось на отдельную бумажку, чтобы не пропасть. Без сюжета и композиции. Вразброс. Как карта ляжет.
Записки из-под полы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Так мало кому известный профессор Беланович, который вряд ли был силен в санскрите, проложил еще один мост между культурами Франции и России.
* * *
Картина Ильи Сергеевича Глазунова “Вклад народов СССР в мировую культуру и цивилизацию” заняла целую стену в парижском офисе ЮНЕСКО. Генеральный директор, обаятельный каталонец Федерико Майор решил наградить художника “Медалью Пикассо”, весьма почетным международным отличием, и о награждении стало широко известно, в том числе и самому художнику. Однако кто-то написал или нашептал, что Глазунов — известный антисемит и что ЮНЕСКО не стоит затевать это награждение. Позвали для консультации меня, мол, как посол решит, так и будем действовать. Майор спрашивает: “Какая у Глазунова репутация, антисемит он или нет?”. Ну что тут ответить. Не знаю. Не эксперт. Все возможно. Мало ли чего он наговорил за свою долгую и бурную творческую жизнь. Можно и должно любить или не любить его живопись, его самого, но если уж фактически наградили, объявили, то кому больше будет урон при внезапном повороте — ЮНЕСКО или Глазунову? Короче, прилетел Илья Сергеевич и получил свою медаль, которую, признаюсь, мы с ним обмыли в одном из неслабых парижских ресторанов.
* * *
Есть заповедное для русского человека: у себя дома нести правду-матку напропалую, если не боишься, что тебя попросят надолго заткнуться. Но за рубежом люби Россию больше, чем в родных пределах, даже если и любить-то, кажется, не за что. Другой не будет никогда, не позорь ее лишний раз перед чужими.
* * *
Лень предохраняет от ошибок. Большая лень предохраняет от больших ошибок.
Ларошфуко говорил: “блаженная леность души” (parese┬se-de┬lice de l’ame).
* * *
04.07.2008 г. По рю де Гренель на рю дю Бак через Королевский мост по набережной Франсуа Миттерана в Лувр, чтобы слегка отдохнуть от тоски “Русского Букера”.
* * *
Еще одна известная французская максима: “В день, когда перестаешь смеяться, начинаешь стареть”.
* * *
Алексий II пытался вернуть русскому православию единство и духовный авторитет в церковном мире. Он умел общаться с прихожанами, и его человеческие качества, думаю, останутся в памяти не только верующих, воцерковленных, но и тех, кто просто встречался с ним. Несколько лет, проводя Дни славянской культуры и письменности, мы сотрудничали, переписывались и находили приемлемые варианты в решении острых конфликтов между церковной и музейной общественностью. Как у каждой незаурядной личности у него были враги в епархиальной и в светской среде.
* * *
Чисто западническое заблуждение Пушкина: “Они любить умеют только мертвых!”. У нас мертвые бывают еще опасней живых. Полюбишь — сам умрешь до срока.
* * *
“Русский Букер” остается весьма репрезентативным премиальным сюжетом, и свидетельство тому его постоянное упоминание не только в СМИ (что естественно), но и в самих современных романах. Как правило, с интонацией иронического недоумения (не то включили, не того наградили, жюри “так себе”, если не хуже). Эта ревнивая озабоченность авторов ли, героев — безукоризненное свидетельство престижа.
* * *
Кто-то из критиков написал: “Присуждение Букера роману “Библиотекарь” Михаила Елизарова — это прорыв и выход из болота толстожурнальной литературы. Хоть большинство обозревателей, повязанных клановыми интересами, этого не заметили”.
Здесь немало правды, и единственное, мечтательное соображение: роман Елизарова мог бы быть написан гораздо лучше и умнее. Без обилия трешевых трюков и туманного финала. Сам автор, впрочем, весьма неучтиво ответил: “Какая-то глупая баба из “Коммерсанта” увидела в моих книгах ностальгию по совку. В гробу я видел эту ностальгию”.
* * *
Я бы, честно говоря, отдал все премии, какие есть, Дмитрию Быкову априори и даже авансом. Пусть он будет у нас единственным главным писателем, как Шолохов.
* * *
Поздно, только что, близко, в лоб столкнулся со стихами Юрия Влодова. Не известными диссидентскими афоризмами из подполья хорош он. А стиховой отвагой, как вот в этом портрете маршала Жукова на фоне поверженного Берлина:
Хмелеет в припадке величья
От славы — глухой и немой.
И шея — лиловая, бычья —
Надрезана белой каймой.
В гранитные латы его бы, —
Чтоб в камне остыл, пообвык,
Хмельной похититель Европы! —
Славянский распаренный бык!
Поступь стиха напоминает лермонтовский “Воздушный корабль”, тут же след знаменитого античного мифа. Но какая своя, влодовская, живопись, каков образ русского беспощадного Бонапарта, в котором сквозь крестьянскую плоть вдруг оживают дух гулевого боярства и тучная, нерассуждающая стать истории! Хорошо, ничего не скажешь. И как бы ответ (вровень) известному стихотворению И. Бродского.
* * *
Ю.Ф. Карякину. 25 января 2008:
“Дорогой Юра!
Два дня подряд читал твою исповедальную книгу. Это целительное чтение, сдирающее коросту с души. Я переживал твое время, как свое, и думал о том, как мне повезло, что я давно знаю человека, которому безусловно веришь, ибо он лишен постоянного благоразумия, как по отношению к миру, так и по отношению к самому себе.
Ты сам — герой Достоевского из немногих положительных. Наверное, тебе об этом уже говорили. Весь путь твоей мысли и поступков ведет к этой аналогии…
“Перемену убеждений” поставил на полку рядом с подаренными книгами Солженицына, Л.К. Чуковской, Э. Неизвестного, Ю.В. Давыдова.
Мы — разные люди, и я ни в коей мере не претендую на доверительные отношения. Но помни, Юра, что думаю о тебе постоянно…”.
* * *
С Василием Аксеновым ушли целый стиль, тип, образ жизни праздничного и печального шестидесятничества. Он останется в памяти культуры как блестящий артист литературной сцены и как пример истинного профессионализма. Его боксерская внешность, картинное западничество вкупе с любовью к джазу так и просятся в советско-американскую антологию ХХ века. Но при этом, заметьте, он был и остается поэтом провинциальной российской дороги — будь то полпути к Луне или ухабы, по которым вечно трясется наша затоваренная бочкотара.
* * *
Конечно, трагическое в искусстве тесно связано с праздничностью, это, можно сказать, его родовое качество. Эстетическое потрясение, которое испытываем мы, соприкасаясь с трагическими героями и обстоятельствами, есть радостное, а не гнетущее чувство, дарящее человеку ощущение свободы и гордости за человеческий род, приподнятости, надежды и даже уверенности в том, что жизнь каждому из нас дана не напрасно. Так бывает при условии подлинно поэтической обработки трагических сюжетов. Гибель мальчика в “Белом пароходе” Чингиза Айтматова пронзает душу не одной скорбью (иначе мы прямо уподобили бы искусство жизни), а именно эстетическим переживаниям более сложного состава, которое необходимо включает в себя некий подъем к правде, приобщение к ней, что всегда благо для человека. То же Сотников у Василя Быкова. Отбирает жизненные силы не трагическое, а лживое. Так было всегда, и наши времена не исключение.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: