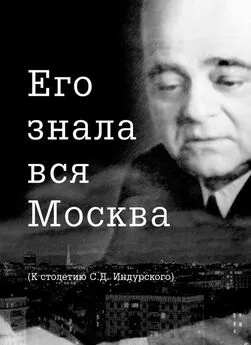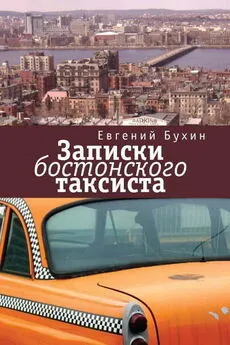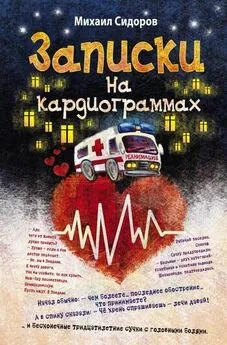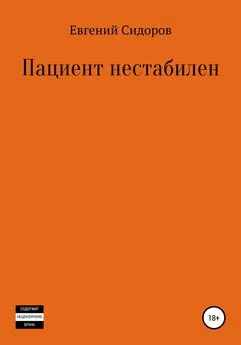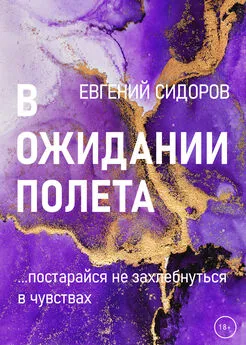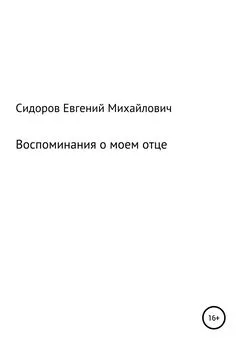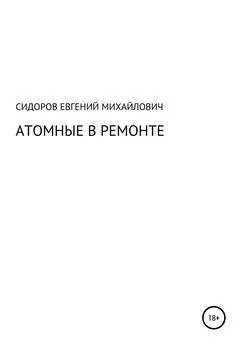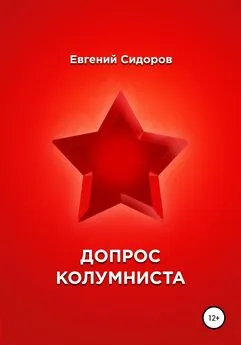Евгений Сидоров - Записки из-под полы
- Название:Записки из-под полы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Сидоров - Записки из-под полы краткое содержание
(из новой книги)
Об авторе: Евгений Юрьевич Сидоров (1938 г.р.) — литературный критик. Министр культуры Российской Федерации (1992—1998), Посол России при ЮНЕСКО (1998—2002), профессор Литературного института им. А.М. Горького. Автор книг и статей о советской многонациональной литературе, кино и театре.
Не фига в кармане, не записки из подполья, а именно из-под полы.
Как мелочь сыплется наружу из нечаянно продырявленного кармана плаща.
Возвращаю известному словесному обороту буквальный смысл, вопреки переносному, общепринятому.
Это не отрывки из дневника, не эссеистские размышления, а именно записки. Что вспомнилось, то и записалось, а потом собралось на отдельную бумажку, чтобы не пропасть. Без сюжета и композиции. Вразброс. Как карта ляжет.
Записки из-под полы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Я не верю в истовость Куняева, в его русофильские экстазы. Настоящий благородный русский человек совестливо поостерегся бы действовать подобными методами против своих оппонентов. Не с Мамаем же, не с польской интервенцией тысяча шестьсот двенадцатого года… Любовь к России носят у сердца, а не разбрасывают сомнительными сочинениями в стихах и прозе, отрицая чужелюбие во имя патриотизма.
Впрочем, православной складки в нем никогда не ощущалось. Куняев был и остается поэтом комплекса неполноценности. Ему было как бы недодано в свое время признания и почета, и его направление приняло отрицательный и узкий характер.
Еврейский вопрос погубил русского поэта Станислава Куняева.
* * *
Юрий Федорович Карякин — один из редких людей, которые повлияли на мою жизнь и убеждения.
Он старше, и долгие годы я время от времени чувствовал на себе его невидимый взгляд и старался не слишком разочаровывать Карякина. Шло это от понимания его значения как человека гражданской и политической чести, талантливого литератора, прошедшего сложный духовный путь от пламенного коммуниста до свободного мыслителя, впрочем, по-прежнему пламенного, но уже в стиле своего главного героя — Достоевского.
Карякин водит дружбу только с умными людьми, с которыми можно говорить о смысле жизни и истории. Он любит и умеет спорить, его дерзкая ироническая рапира всегда наготове, он не боится пафоса, он умеет страстно заблуждаться, но всегда бывает обаятелен в абсолютном бескорыстии своей мысли. Его застольные разговоры с Э. Неизвестным, В. Страда, Н. Коржавиным, Ю.В. Давыдовым помню хорошо и надолго. Это была школа мысли, где праздничная утопия мешалась с естественным пессимизмом.
Для меня Карякин — личность с трагической подкладкой. Отсюда и Гойя, отсюда и его взгляд, запечатленный Светланой Ивановой на замечательном фотопортрете.
В пору “перестройки” я приглашал его в Литературный институт. Зал ломился от восторженных слушателей.
Ему всегда не хватало дела, овеществления идеи, отсюда и общественно-политические страницы его жизни.
* * *
Анатолий Васильев ставил “Маскарад” Лермонтова в “Комеди Франсез” и поручил роль Арбенина замечательному актеру Жан-Люку Бутте, у которого, к несчастью, была ампутирована нога. Арбенин приближался к гибели на инвалидной коляске. Это, несомненно, путало карты. Впрочем, реальные игральные карты летали по сцене, как бабочки. Было очень красиво, кружились маски, тень и свет вступали в роковой поединок.
Героя было по-человечески жалко с самого начала. Критики писали: “Жан-Люк Бутте, то с трудом держась на ногах, то опускаясь в инвалидное кресло, с необыкновенным достоинством воплощает истину смерти, возмутительную и непереносимую для человека”. Через несколько месяцев после премьеры актер ушел из жизни вместе со спектаклем.
“Серсо” Виктора Славкина Васильев репетировал на Таганке года три, не меньше. Помню только Петренку, остальное скрылось в тумане, но Петренко, куда его ни поставь, везде будет хорош.
“Маскарад” был наполнен паузами. Они казались вечными. Не могу судить, насколько хороши были лермонтовские стихи во французском переводе, вкрапленные между молчаниями. Честно говоря, хотелось Мейерхольда или, на худой конец, Хачатуряна.
Гениальность, в сущности, недоказуема. И одноногий Арбенин далеко не крайний случай современного сценического “прочтения”. Некоторые парижские театралы постепенно покидали партер, не выдержав трех с половиной часов без антракта. Но кто сказал, что правы были они, а не художник?
“Взрослая дочь молодого человека”, “Васса” — эти страницы васильевской режиссуры остались в памяти целиком, не фрагментарно, как в волшебной булгаковской коробочке из “Театрального романа”. (Запись 1992 года).
* * *
На прощание с Александром Исаевичем Солженицыным писателей набралось едва ли десятка три, не больше. И в Академии наук, и на кладбище Донского монастыря, и на поминальной трапезе помню только некоторых: В. Распутина, Л. Сараскину, С. Бочарова, В. Глоцера, А. Варламова, Э. Лимонова, Аллу и Леню Латыниных, Н. Кондакову, А. Курчаткина, Ренэ Герра, Никиту Струве, В. Непомнящего, Е. Попова, Б. Ахмадулину, Р. Гальцеву, И. Роднянскую, Е. Чуковскую. Мелькнул желтой кожаной курткой В. Бондаренко. Простите, кого не узрел, не заметил.
Конечно, нет пророка в своем Отечестве. Но хотя бы чувство исторического масштаба и личности, и события должно присутствовать в литературной среде? Куда там!
Зато шли бывшие зеки, в дождь, крестясь, некоторые, прощаясь, произносили слова краткой молитвы.
* * *
Пишем некрологи, уходят друзья, один за одним скрываются в темноте, оставляя нас на последнем свету. Отар Чиладзе — поэт и прозаик мощной силы — похоронен в Тбилисском пантеоне неподалеку от нашего Грибоедова.
Сейчас можно сказать: ушел классик грузинской литературы ХХ века.
Я люблю его книги и писал о них. Они составили гряду, протянувшуюся от берегов древней Колхиды до нынешней израненной земли. “Шел по дороге человек” — уже в названии первой вещи этого цикла дышали вечность и современность, история народа и судьба личности. Отар Чиладзе шел по дороге постижения судьбы Грузии, следуя урокам не столько истории (но и истории тоже), сколько человека, впаянного в ее смысл и движение. Ветвистая фраза его романов стремилась завладеть глубиной сознания персонажа, заставить его раскрыться до конца в слове и мысли.
Вижу его сдержанный облик, достоинство, немногословие и врожденную элегантность. Вижу его глаза, вмещающие многое из того, чего сегодня не хотелось бы видеть.
* * *
Мир до тебя, в тебе, после тебя — вот о чем стоит задумываться.
Твое физическое существование есть маленький случайный взрыв солнца посреди вечного ночного безмолвия. Поэтому жизнь не сама по себе, а частный случай смерти, распростертой до и после твоего сознания.
Совершенно неисповедимо, не под силу уму, только вере.
* * *
Удачная идея — учредить, вслед за “знаменской” премией, институтский кружок и альманах, назвав их именем Белкина. Белкин как бы есть, и как бы его нет и не бывало вовсе. Это суть русского. Мерцающее, не побежденное рассудком, странно любимое.
Но все-таки Иван Петрович Белкин был всегда, задолго до Пушкина. Пушкин нашел Белкина в траве, нагнувшись, гуляя. Так же, как Пастернак в той же траве вдруг обнаружил свои якобы простые стихи позднего периода.
Лучший литинститутский сборник, изящно оформленный, — славное детище Алексея Константиновича Антонова. Он читает хорошие лекции и пишет хорошие стихи, не похожие на свои лекции.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: