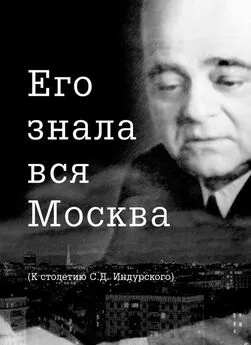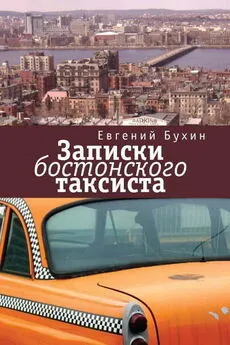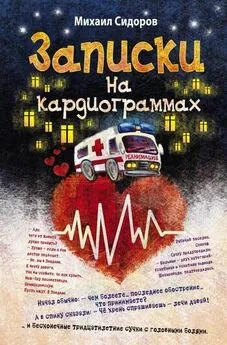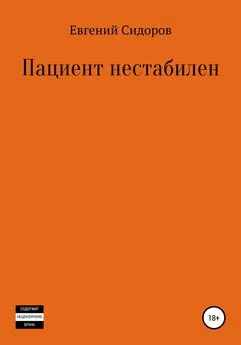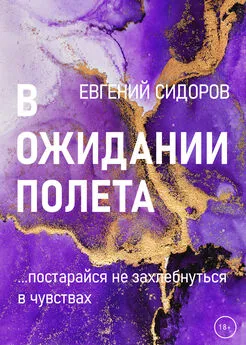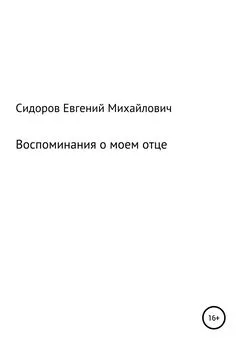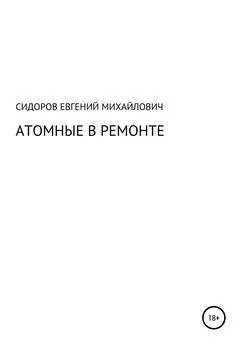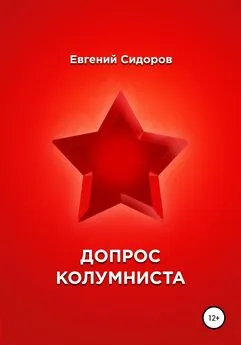Евгений Сидоров - Записки из-под полы
- Название:Записки из-под полы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Сидоров - Записки из-под полы краткое содержание
(из новой книги)
Об авторе: Евгений Юрьевич Сидоров (1938 г.р.) — литературный критик. Министр культуры Российской Федерации (1992—1998), Посол России при ЮНЕСКО (1998—2002), профессор Литературного института им. А.М. Горького. Автор книг и статей о советской многонациональной литературе, кино и театре.
Не фига в кармане, не записки из подполья, а именно из-под полы.
Как мелочь сыплется наружу из нечаянно продырявленного кармана плаща.
Возвращаю известному словесному обороту буквальный смысл, вопреки переносному, общепринятому.
Это не отрывки из дневника, не эссеистские размышления, а именно записки. Что вспомнилось, то и записалось, а потом собралось на отдельную бумажку, чтобы не пропасть. Без сюжета и композиции. Вразброс. Как карта ляжет.
Записки из-под полы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Как бы то ни было, бесспорно одно: русский путь при всех (естественных) восточноазиатских вкраплениях был и остается частью европейской истории, частью европейской мысли и культуры.
* * *
Ничего, кроме демократического развития, история России предложить не в состоянии. Стало быть, политической элите, образованию, науке и бизнесу надо делать решительные шаги навстречу друг другу. Необходима идеология развития, принятая обществом, артикулируемая публично, во всенародных дискуссиях, в свободных СМИ, а не рожденная келейно за зубчатыми итальяно-русскими стенами багрового кирпича.
* * *
Как ни грустно сознавать, но учиться жить по-настоящему я стал только после пятидесяти. Я имею в виду сознательное жизнестроительство, руководство своей судьбой. До этого все было поглощено грубой действительностью (пусть и с романтической подкладкой), ее непреклонной динамикой, мгновенными дружескими сближениями и расставаниями, женщинами, любовью, выпивкой, поденной журналистикой и литературной работой, диссертациями и профессорством, компромиссами, маленькими ничтожными драмами, большим инфарктом и пр. Как поздно и как оздоровляюще я понял, что бремя жизни в твоих руках, и никто не вправе изменить ее вектор в сторону, противоположную твоей судьбе и твоему миропостижению. Разумеется, очень помогли политические перемены, но не они решали дело.
Молодая проза Василия Аксенова гуляла нараспашку с приподнятым воротником. Это был фирменный стиль, и он дышал протестной безнадегой. Родина была далеко и застегнута на все пуговицы даже там, где не было ни пуговиц, ни петель, где все давно оторвалось и зашилось.
Великая удача Аксенова, что он не стал диссидентом. Он был полнокровен и здоров, остроумен и блестящ, он жил жизнью художника. И это несмотря на судьбу родителей, которая вполне могла увлечь его в сторону прямого, а не стилистического протеста.
Большие вещи Аксенову, как правило, не вполне удавались, но зато рассказы были дивные. Даже названия их дышали мужской нежностью и поэзией: “Маленький Кит – лакировщик действительности”, “Папа, сложи!”, “Как жаль, что вас не было с нами!”, “На полпути к луне”, “Лебяжье озеро”.
Лучшие рассказы тех призрачных лет – Юрия Казакова и Василия Аксенова.
Он сидел с семиструнной гитарой на раскладушке в моей маленькой квартирке на Полтавской улице. Брал три аккорда в миноре, изредка переходя в параллельный мажор, и исполнял речитативом то Рубцова, то Дельвига, не без слуха, с нетрезвым и очень искренним надрывом, вероятно (думалось), в стиле Аполлона Григорьева. Задушевная полуслеза сверкала сквозь очки. На шее, когда брал высоко, вздувалась жилами аорта, впрочем, без игры на разрыв.
Его обаяние мешалось с легким цинизмом, характерным смешком, когда дело касалось местных писательских и житейских сюжетов, но в одаренности и преданности русской истории и литературе отказать ему было невозможно. Активное участие вместе с С.Г. Бочаровым в возрождении М.М. Бахтина – его несомненная заслуга перед нашей культурой.
Другое дело, что он не владел какой-либо своей, главной, всё проницающей мыслью, в своих писаниях и увлечениях он был разбросан и весел, любил чисто по-ноздревски сшельмовать, передернуть, но даже это не вызывало (у меня, по крайней мере) серьезного протеста, потому что он был чем-то хорош, как персонаж нашей жизненной пьесы. Так бывает хорош ловкий и азартный игрок с вдруг побледневшим лицом от внезапно нахлынувшей удачи. Он был насмешливо подробен в полемике, но старался не слишком преступать общепринятых этических норм.
Его литературные ученики не оправдали надежд учителя. Что оставалось?
Сделать из него знамя.
* * *
Медноволосая Инга Петкевич, красавица и умница, писала талантливую прозу и была женой Андрея Битова. Я принялся слегка ухаживать за ней, тем более, что, по счастью, она не видела “Идиота” у Товстоногова, и мы вдвоем отправились на спектакль. Так я впервые увидел на сцене Смоктуновского, про которого несколько дней спустя Ольга Федоровна Берггольц сказала мне, что не любит этой роли. “Он играет не Мышкина, а болезнь”. Тем не менее вечер в театре на Фонтанке (благодаря не только И.С., но и И.П.) навсегда остался в моей благодарной памяти.
* * *
Через многие годы, уже в Москве, Иннокентий Михайлович Смоктуновский оказался моим соседом в доме на Суворовском бульваре. Его квартира была под моей, и иногда он мечтательно путал этажи. Возникая у нас, он никогда не признавался в ошибке и вынужден был мило беседовать со мной, просматривая книги в библиотеке. Смоктуновский не любил своего “Гамлета” у Козинцева, а я как раз восторженно написал о нем, и маститый шекспировед А.А. Аникст напечатал статью в своем шекспировском ежегоднике. Ни слова одобрения от Гамлета я не удостоился. Он замечательно и загадочно улыбался, а потом вдруг исчез этажом ниже, как тень своего отца.
* * *
Вячеслав Всеволодович Иванов рассказывал, как в одну из литературных встреч на квартире у Горького, в присутствии Сталина, А.М. указал на Л.М. Леонова: “Вот кто отвечает сегодня за будущее нашей литературы”. Сталин внимательно посмотрел на “преемника”. Умный Леонов почувствовал страшную опасность, и это чувство уже не покидало его. Он стал предельно осторожен, уходя внутрь, тщательно приспосабливая свой дар к внешним обстоятельствам.
* * *
Жара в Москве и окрестностях 38 градусов. Лежу с книгой под вентилятором. Когда еще будет возможность перечитать Розанова, “Анну Каренину”, письма Ю.М. Лотмана, дневники И.А. Бунина. Боже мой, как же хочется жить после ужаса смерти, которым пронзен насквозь стареющий Бунин! А ведь правда, думать о смерти – самое главное в зрелой жизни. Но при этом искать смысл и радость, без отчаяния и бегства. И без надежды, что Спаситель все за нас решит и сделает.
* * *
“Я мысль о смерти сделаю настольной,
Как лампа, – без которой не могу”.
(Татьяна Бек)
* * *
О счастье павших.
Санду. Разве павшие на войне – это лучшая часть войск?
Кэлин. Конечно же – лучшая часть… В бою всегда лучшие падают первыми – в этом счастье для них и трагедия для оставшихся.
(Из пьесы Иона Друце “Святая святых”)
* * *
В 1959 году я вплотную познакомился с зерноуборочным прицепным комбайном с шестиметровым захватом жатки. На жатке висели два подборщика, которые то и дело вгрызались в землю, и тогда приходилось останавливаться для мелкого ремонта.
Уборка была раздельной. Для тех, кто не в курсе, поясняю: сначала срезанные колосья укладывают в валки, где они, по идее, дозревают, а затем мы их подбираем и молотим. Трактор “Сталинец-6” таскает нас по жнивью.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: