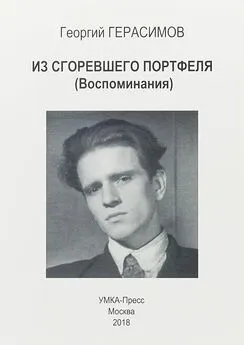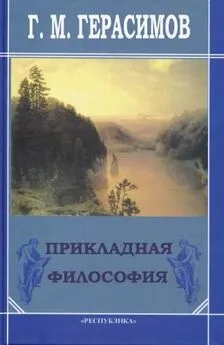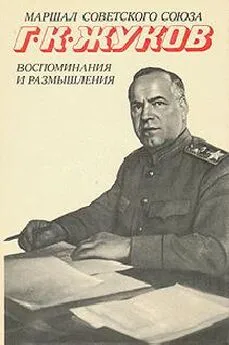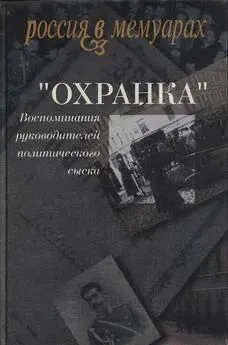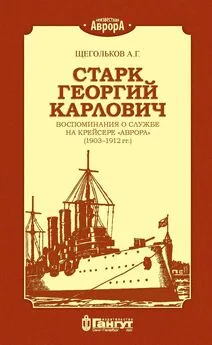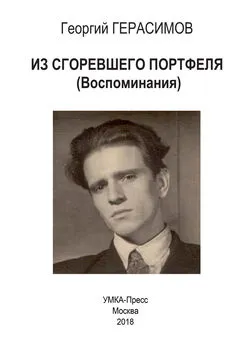Георгий Герасимов - Из сгоревшего портфеля (Воспоминания)
- Название:Из сгоревшего портфеля (Воспоминания)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Георгий Герасимов - Из сгоревшего портфеля (Воспоминания) краткое содержание
Из сгоревшего портфеля (Воспоминания) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Москва-1944
Площадь трех вокзалов. Такое знакомое, привычное, пусть несколько потускневшее метро – «Комсомольская». За ней «Красные ворота», «Кировская» и... А вот на «Кировской» остановки нет. Платформа забрана побеленными фанерными щитами... Почему это? Наконец наша «Дзержинская». Лестница-чудесница! Поднялись, обвешанные вещами, на Лубянку, свернули на Никольскую: угловой магазинчик «У артистов» – в начале тридцатых здесь распределитель был для актеров – так и остался «У артистов», напротив аптека Ферейна, арка Третьяковского проезда... И вот он, наш, 1-17, «Славянский базар»! Парадное. В дверях вместо стекол – фанерки. И сам парадный вход несколько съежился, уменьшился в размерах. Бывало, мы тут и в салочки играли, и в прятки... Мама достает ключ – все годы был с нами, сохранился. Наша – No 11 на первом этаже, прошли знакомый коридор, спустились на два марша, повернули налево... У нас в комнате живут какие-то люди. Дверь не заперта. Ах, из разбомбленного дома?! А у нас, оказывается, никаких прав на эту жилплощадь нету. Два года не вносили квартплату. Но кто же знал, что ее надо вносить?! Отец совсем не бывал в Москве... В комнате кое-какие наши вещи: гардероб, кровать мамина. Но нам места нет. С этого и начались наши многолетние мытарства. На первых порах приютили соседи – друзья довоенные. Мама ночует у своих приятельниц, меня при няли в семью Володи Соколова, они уже тоже вернулись из эвакуации, но у них с квартирой все в ажуре – Николай Семенович, отец семейства, оставался в Москве. У него погоны капитана второго ранга, вернее, военного инженера, с двумя просветами, но серебряные. Нестроевик. Всё-то мы тогда про погоны, лычки, нашивки знали... А их изобреталось все больше и больше. И железнодорожники, и прокуроры, и финансисты, и гражданская авиация. Обмундировывал империю генералиссимус... Жена как-то вспоминала зиму сорок второго, они тогда в Куйбышеве – Самаре в эвакуации были, она в седьмом училась. И их всем классом, если не всей школой, послали на швейную фабрику – резать погоны... До сих пор без скорби не может рассказывать: «Народ оборвался, в какие-то тряпки кутаемся, а тут огромные рулоны прекрасного сукна раскатывают на полу, и мы большими, не по нашим рукам, ножницами кромсаем это богатство, лазим на коленках... Вспомнить страшно...» Нет, не было удержу нашим «административным восторгам». Под Сталинградом еще бои, а мы готовим армии к парадному вошествию в Европу: как же там примут нас без погон? Срам! Ненавижу!
Маму сразу же взяли на работу, правда, не в Щепетильниковский трампарк, а в Управление, старшим инженером отдела труда и зарплаты. Она подала в суд на «захватчиков» нашего жилища, а я уехал к отцу, в поселок Дзержинского, шел февраль. В девятый класс местной школы меня не приняли, у меня за девятый только за первую четверть несколько отметок, да и то одна двойка, а за вторую не аттестован полностью... На семейном совете решили, что надо мне до будущей осени поработать, ну потеряю год, не страшно. Тем более, что он у меня «запасной», «незаконный». И повел меня папа на свой завод. Приняли учеником в Пятый – подсобный цех. Начальник цеха Петровский, отцов приятель, встретил меня радушно. Цех у него был маленький – сколачивали тару для основной продукции, кое-какую «жестянку» делали, грузовые тележки ремонтировали, мебель, малярили. На третий день принес я Петровскому справку из Куртамыша, что у меня третий разряд столяра-краснодеревца. Меня сразу повысили, зарпла ту прибавили, карточку рабочую дали, а тут как раз шестнадцать исполнилось. Поставили на ремонт мебели, посылали замки врезать, стеклить, рамы-двери чинить. Но и в этом качестве недолго держали. К марту уже забрал меня начальник цеха к себе в контору – кладовщиком-нарядчиком. Перешел я в разряд ИТР. Столь быстрая карьера объяснялась, вероятно, не столько моими «выдающимися» способностями – ведь и на счетах, как заправский бухгалтер, щелкал – сколько авторитетом отца: как-никак парторг. Впрочем и образование мое восьмиклассное (неоконченное среднее, как тогда называлось) свою роль сыграло. В подсобном-то нашем все больше полуграмотные девчонки, парнишки с едва законченной начальной школой да безграмотные бабки, крестиками расписывавшиеся, из соседней деревни Гремячево. А всех «инженерно-технических работников» – Петровский да мастер. Был еще старик-жестянщик дядя Алексей – золотые руки. Все умел из обрезков железяк смастерить – абажуры, ящички под хитрый замочек, фляги с завертывающимися и не протекающими крышечками... Паять, лудить я у него научился. Дядю Алексея в армию по возрасту не брали, уже за шестьдесят было. А мастер – здоровенный, розовощекий, улыбчивый, – страдал, как выяснилось, падучей. Частенько, в самый неожиданный момент, в самом неподходящем месте его вдруг скручивало, бледнел, на губах пена – падал, круша все что ни попадя, вместо глаз – вылупленные белки, судорога бьет, выгибает – на него кидались все, кто был рядом, держали за руки, за ноги, чтобы не пока лечился. И надо было обязательно раскрыть ему рот и что-то деревянное между зубов сунуть: боялись, язык откусит или задохнется. Бабы наши очень его жалели. Такой мужик – и нá тебе. Побьется-побьется и отходит. Лицо снова розовеет, на губах виноватая улыбка. Добрый, тихий. А запомнился яростными припадками, когда в беспамятстве мог что хошь вокруг разнести...
Восседал я теперь в цеховой канцелярии, закутке, отгороженном от «производственной площади» застекленной стенкой. Стол Петровского с телефоном, мой – большой двухтумбовый, да простой – мастера, рядом с ним тумбочка под замком – сверла там, перки, стамески, ножовки, рубаночные железки и проч. На моем столе главный предмет – счеты. Папки с копиями нарядов, чистые бланки и множество нормативных справочников. И, конечно, как у настоящего бюрократа – письменный прибор со стеклянными кубами чернильниц, пресс-папье, бронзовым стаканчиком для ручек.
В курс дела вводил меня сам Петровский. Учеником, видно, оказался я понятливым. Кое-что подсказывал поначалу и мастер. А вообще-то все просто: опросишь, какую работу человек проделал, не только, что произвел, но и как – сколотил, скажем, тридцать ящиков, сам для них заготовки делал, к верстаку таскал, – вот все и учитываешь: сколько носил, да на сколько метров, – каждая отдельная работа копеечная, а набегают рубли, если, скажем, доски сырые надо было в цех с улицы таскать... Так выводился дневной заработок на всех сдельщиков. Наряды мастер подписывал. Главное – не обидеть работягу, дать заработать. Сперва и ошибался, но меня поправляли – того-то в наряде не учел, здесь упустил: кто-то разгружал, убирал, нагружал. Разве все упомнишь? И каждую позицию отыскать в справочниках надо, что стоит работа. Тут и тонкости: резал жесть на ручных ножницах. Сколько погонных метров, какова толщина жести? На все разные расценки. Наука! А меня почти сразу ввели в бюро цехкома ВЛКСМ, а там и в заводское, стенгазету и наглядную агитацию поручили, патрулировать в ОСОДМИЛе пригласили: смотреть, не горит ли где-либо свет по вечерам, не нарушена ли маскировка, не шастают ли недобрые люди. Военные объекты кругом. Хотя налетов давно уже не было, за светомаскировкой следили строго, не только на заводе, но и в поселке. Ловили и пьяных. В основных цехах как один из компонентов продукции использовался спирт. В Первом цеху было несколько обычных водопроводных кранов – отвернешь – течет «огненная влага». И никакого тебе особого учета... Следи не следи, а любитель обязательно словит момент, чтобы сделать глоток-другой.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: