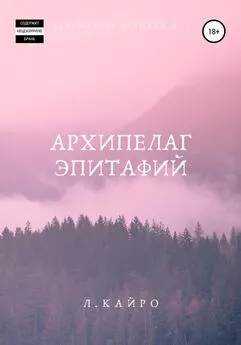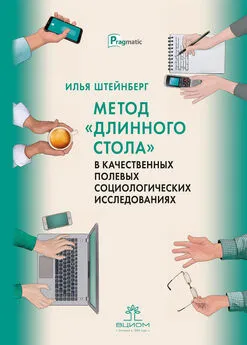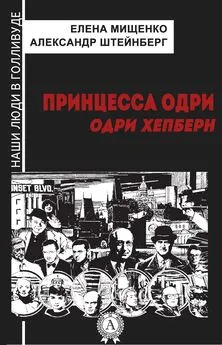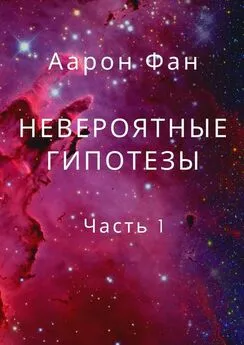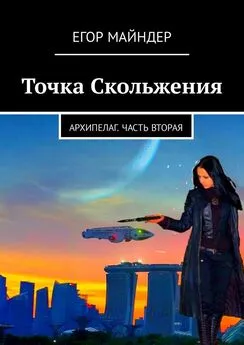Аарон Штейнберг - Литературный архипелаг
- Название:Литературный архипелаг
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое Литературное Обозрение
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:978-5-86793-694-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Аарон Штейнберг - Литературный архипелаг краткое содержание
Литературный архипелаг - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
567
Речь идет о романе «Мы» (1920), который из-за невозможности напечатать его в Советской России (см. об этом: К истории издания романа «Мы» / Вступ. ст., публ. и коммент. Р.М. Янгирова // Евгений Замятин и культура XX века: Исслед. и публикации. СПб., 2002. С. 168–176) впервые появился в английском переводе (1924), затем, при посредничестве Р. Якобсона, — на чешском языке, еще позднее, с помощью И. Эренбурга, — на французском (1927) и, наконец, в том же году по-русски в эмигрантском журнале (Воля России. № 1–4). В 1929 г. разразился общественно-литературный скандал, носивший характер организованной политической кампании, направленной против Пильняка и Замятина. Конкретным поводом послужил факт публикации их произведений на Западе (в случае с Пильняком — повести «Красное дерево» в берлинском издательстве «Петрополис»), Фактически эта кампания преследовала более широкие цели — наступления на творческую свободу. Подробнее о ней см.: Любимова М.Ю. Е.И. Замятин и Б.А. Пильняк: (Материалы к биографиям) // Источниковедческое изучение памятников письменной культуры. СПб., 1994. С. 98-108; Галушкин А. «Дело Пильняка и Замятина»: Предварительные итоги расследования // Новое о Замятине. М., 1997. С. 89-146; см. там же (С. 140–141) о покаянии как модели поведения писателя, добивающегося прошения («линия Пильняка»). Замятин публично не каялся, он обратился с личным письмом к Сталину, где просил отпустить его за границу (см.: Замятин Е. Избранные произведения. М., 1990. С. 500–504), и с помощью Горького получил разрешение. Выпущенный из Советского Союза Замятин приобрел в глазах Штейнберга статус «прощенного» властями. Спустя годы он записал в своем дневнике (13.IV.1969): «Сейчас за обедом <���…> прочел в последнем номере „Литературного приложения“ к „Таймс“ (TLS от 10-го апр[еля] № 3502, стр. 382) статью (без подписи, б[ыть] м[ожет] Ис[айи] Б[ерлина]?) о Евг. Ив. Замятине и о „сходстве“ его „Мы“ с „1984“ Жоржа Орвелла. Зависимость второго от первого давно была отмечена мною в моих частных беседах» ( ДАШ ).
568
Покинув Царское Село в 1917 г., Форш уже никогда более не проживала в нем постоянно.
569
Этот пассаж явно проникнут более поздним опытом: едва ли в 1931 г. Форш могла столь проницательно предвидеть практику коллективных печатных «осуждений» «врагов народа», ставших нормой поведения в годы Большого террора.
570
Речь идет о романе «Сумасшедший корабль» (1930), где под именем Микулы описывается Н. Клюев и на его фоне упоминается «один доктор философии»: «Нагнулся, чтобы достать что-то из-за голенища. Лоб сверкнул таким белым простором под отпавшими при наклоне космами, что подумалось: ой, достанет он сейчас из-за голенища не иначе как толстенький маленький томик Иммануила Канта, каким хвастал один доктор философии. Зовется томик „Kant für sich“ — „Кант для самообслуживания“, издание портативное» ( Форш О. Сумасшедший корабль. Л., 1988. С. 128).
571
Уместно упомянуть, хотя Штейнберг об этом не пишет, о киносценариях Замятина: «Стенька Разин», «Царь в плену», «Смутное время», «Чингис-хан», «Вешние воды», «Война и мир», «Анна Каренина» (фильмы поставлены не были) и — совместно с Ж. Компанейцем — «На дне» (по мотивам пьесы Горького). Адаптировав последний сценарий к французской действительности, Ж. Ренуар снял по нему фильм «Les bas-fonds» (1936) с Ж. Габеном (в роли Васьки Пепла) и Л. Жуве (в роли Барона), см.: Sesonske Alexander . Jean Renoir: The French Films. 1924–1939. Cambridge, Mass.; L., 1980. P. 257; см. также: Баскаков B.E. Евгений Замятин и кинематограф // Киноведческие записки. 1989. № 3; Харви Б.Д. Евгений Замятин — сценарист // Там же. 2001. № 53. Замятинская пьеса «Блоха», в переводе Сидерского, готовившаяся к постановке в Париже (ставил ее премьер театра «Одеон» П. Эттли, балетмейстер М. Библин), была сыграна в конце 1933 г. в Брюсселе; по свидетельству 3. Шаховской, спектакль провалился ( Шаховская З.А. В поисках Набокова. Отражения. М., 1991. С. 243), подробно эта тема рассмотрена в: Геллep Л. О неудобстве быть русским (эмигрантом). По поводу писем Замятина из парижского архива В. Крымова // Новое о Замятине. С. 176–202.
572
Замятин умер от приступа грудной жабы.
573
Приказчик киевского кирпичного завода М.М. Бейлис был обвинен в убийстве, якобы в ритуальных целях, православного мальчика Андрюши Юшинского; 12 июля 1911 г. он был арестован; суд, который проходил с 25 сентября по 28 октября 1913 г., Бейлиса полностью оправдал.
574
«Русское знамя» (Петербург; 1905–1917) — со дня основания «Союза русского народа» осенью 1905 г. до 1909 г. его главный печатный орган. После произошедшего в 1909 г. раскола внутри «Союза» другим, в определенном смысле оппозиционным, органом русских черносотенцев стала газета «Земщина» (Петербург; 1909–1917). О «Союзе русского народа» и его идеологии см.: Степанов С.А. Черная сотня в России 1905–1914. М., 1992; Степанов А. Черная сотня: взгляд через столетие. СПб., 2000.
575
В «Земщине» появились, в частности, статьи Розанова «Андрюша Ющинский» (1913. 5 окт.) и «Наша „кошерная печать“» (1913. 22 окт.), вошедшие затем в его книгу «Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови» (СПб., 1914).
576
С 1912 по 1916 г. Розанов жил по адресу: Коломенская ул., 33, кв. 21, см.: Воспоминания Татьяны Васильевны Розановой об отце — Василии Васильевиче Розанове и всей семье / Вступ. ст., публ. и примеч. Л.А. Ильюниной и М.М. Павловой // Рус. литература. 1989. № 3. С. 215, 227. В сохранившейся в SC письменной (незавершенной) версии этого очерка (см.: Портнова Н. , Хазан В. Встреча с Розановым // Лехаим. 2007. № 1. С. 67–71) Штейнберг называет именно эту улицу.
577
Розанов пригласил Штейнберга на одно из своих «воскресений», о которых П.П. Перцов, апеллируя к несколько более ранней эпохе, писал в «Воспоминаниях о В.В. Розанове»: «В те годы — в конце прошлого столетия и в начале нынешнего — было интересно жить в Петербурге. Когда-нибудь будет написана подробная история этих годов — может быть, нисколько не менее значительных для русского духовного развития, нежели пресловутые 40-е годы. Такая интенсивность и свежесть вновь возникающих умственных интересов еще не повторялась с тех пор в России. Теперь все захвачены „практикой“ жизни, тогда, при слабой практике, было время для поисков „теории“. В этих поисках, в том напряжении созерцательного творчества, в ряду других, одно из первых мест занял Василий Васильевич. Его дом, естественно, стал одним из интеллектуальных „журфиксов“ столицы, куда волна выносила, надолго или мимолетно, каждого захваченного течением. <���…> розановские воскресенья были одним из тех очагов, где ковалась новая идейность. При радушии хозяев и газетных связях Василия Васильевича здесь набиралось, может быть, больше постороннего элемента, чем в других местах, но „оглашенные“ постепенно сами собой отходили в сторону, а „елицы верные“ продолжали прясть переходившую со станка на станок пряжу» ( Перцов П.П. Литературные воспоминания. 1890–1902 / Вступ. ст., сост., подгот. текста и коммент. А.В. Лаврова. М., 2002. С. 265).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
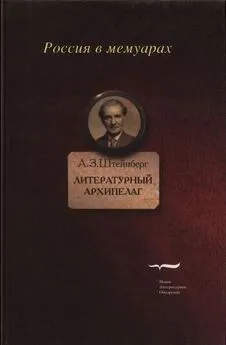


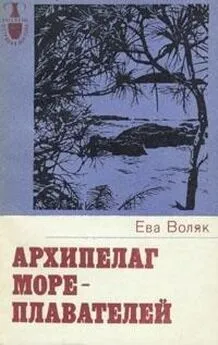
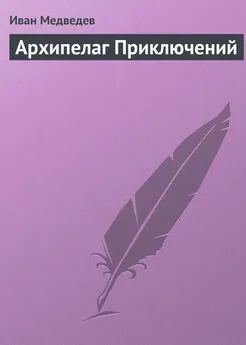
![Николай Побережник - Потерянный берег. Рухнувшие надежды. Архипелаг. Бремя выбора [сборник]](/books/1099462/nikolaj-poberezhnik-poteryannyj-bereg-ruhnuvshie-nad.webp)