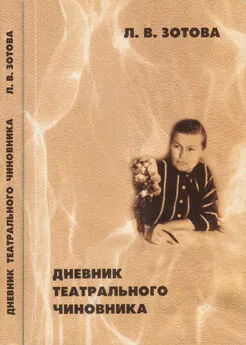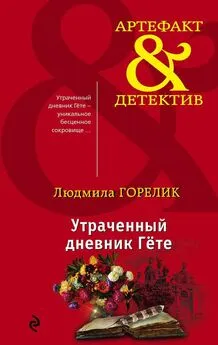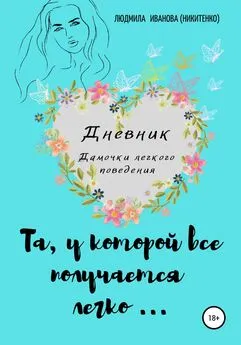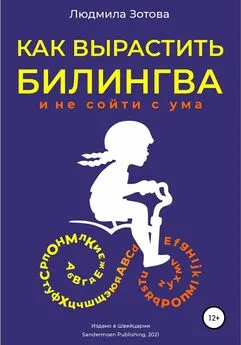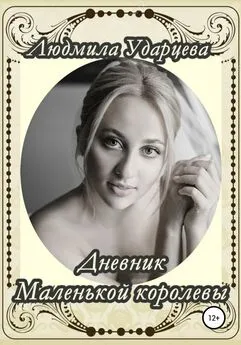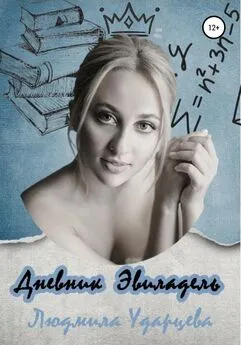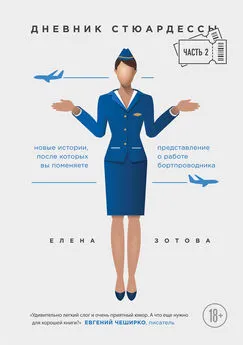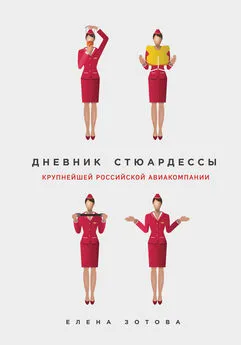Людмила Зотова - Дневник театрального чиновника (1966—1970)
- Название:Дневник театрального чиновника (1966—1970)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ПИК ВИНИТИ
- Год:2003
- Город:Москва
- ISBN:5-87334-050-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Людмила Зотова - Дневник театрального чиновника (1966—1970) краткое содержание
Окончив в 1959 году ГИТИС как ученица доктора искусствоведческих наук, профессора Бориса Владимировича Алперса, я поступила редактором в Репертуарный отдел «Союзгосцирка», где работала до 1964 года.
В том же году была переведена на должность инспектора в Управление театров Министерства культуры СССР, где и вела свой дневник, а с 1973 по 1988 год в «Союзконцерте» занималась планированием гастролей театров по стране и их творческих отчетов в Москве.
И мне бы не хотелось, чтобы читатель моего «Дневника» подумал, что я противопоставляю себя основным его персонажам.
Я тоже была «винтиком» бюрократической машины и до сих пор не решила для себя — полезным или вредным.
Может быть, полезным результатом моего пребывания в этом качестве и является этот «Дневник», отразивший в какой-то степени не только театральную атмосферу, но и приметы конца «оттепели» и перехода к закручиванию идеологических гаек.
Дневник театрального чиновника (1966—1970) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Завадский:
«Я хочу высказать несколько мыслей, которые меня волнуют. Я не могу выступать научно, я могу только поделиться своими мыслями, тревогами и надеждами. Неправомерно и неправомочно противопоставлять Мейерхольда и Станиславского, это мы поняли уже давно, еще тогда. Мейерхольд был борцом, имел убеждения, средствами искусства он хотел воздействовать на жизнь, как и Станиславский, и Вахтангов. Мейерхольд жил под знаком того, что он коммунист, так как он это понимал. Я с ним встречался мало, только во время подготовки Первой режиссерской конференции [21]. Она здесь проходила. Мы его встретили тогда овациями. Уже было трудно, и он печально, грустно говорил, что надо говорить правду, что серое искусство, которое тогда затягивало горизонт, не является настоящим искусством. Лирика и сатира в единении закономерны для всего русского искусства. Еще Гоголь писал: „Огнем негодования лирического зажала их насмешка“. Мейерхольд заглядывал чересчур вперед, вот поэтому он нам близок. Мейерхольду нельзя подражать, надо лишь взять от него кусочек огня, чтобы продолжать его борьбу со всем косным. Мейерхольд включал в себе все возрасты и все эпохи. Судьба Мейерхольда, Пастернака не должна повториться. Надо начать открытые дискуссии, а не заниматься закулисными пересудами. Я вступил в партию не для того, чтобы говорить тем, кого я не уважаю, „чего изволите“. Когда сегодня происходит эта печальная история с Эфросом, так не может продолжаться. Если он печальный, это не повод, чтобы считать его антисоветским. Если ему печально жить, если еще не все хорошо — ведь это так. Еще у Шекспира в „Короле Лире“ одна Корделия, которая не клялась, верна отцу осталась. Я думаю о своих учениках обо всем советском искусстве. От Мейерхольда должно взять ощущение, что каждый ответствен за свои поступки, мы все ответственны».
(Бурные аплодисменты. Все встали.)
Б. Захава:
«Я позволю себе продолжить тему „Станиславский и Мейерхольд“, недаром Вахтангов искал возможность их объединить, один спектакль чтобы поставил Станиславский, другой — Мейерхольд». (Читает рассказ об этой попытке.)
В. Плучек:
«У Пастернака есть строка: „Не спи, не спи, художник“. Чем больше время заковало его время, тем больше он живет. Мейерхольд — океан, а мы, ученики, лишь горсточки уносили. Самый статичный спектакль — и самый динамичный; блеск живописи — и изгнание живописи со сцены; расчленил сцену по диагонали — и по вертикали; изысканность, тонкость — и грубость (ночной горшок), эксцентрика у актера — и психологическая точность у актера… Можно это множить и множить, всего и не перечислишь. Часто ученики, соприкоснувшись с ним в определенном периоде, потом творили лишь в этом аспекте. Мейерхольд — это постоянный праздник, у него никогда ничего не предусмотришь. (Приводит много примеров.) И вот мы — наследники этого наследия, а где же форма в наших спектаклях? Для него всю жизнь врагом была многоликая пошлость».
В перерыве Раевский волновался, что зря Плучек «оскорбил» ГИТИС, и не надо, мол, было Завадскому говорить об Эфросе. Голдобин кивал головой: «Да, да».
Марков перед началом «второго отделения» внес поправку в оценку ГИТИСа: вот, мол, Захаров, замечательно поставивший «Доходное место», Товстоногов, Покровский, Эфрос — это все ГИТИС.
Ростоцкий — говорит о влиянии наследия Мейерхольда на мировой театр и что имеет мировое значение в его наследии. Один театровед на Западе выпустил большую книгу о Мейерхольде, новую книгу. «Мы такую новую книгу не имеем пока, но будем иметь. И в Италии, и в Германии, и во Франции изданы сборники статей Мейерхольда, но не такие полные, как будут у нас».
Горчаков:
«В Америке издана „История советского театра“, где написано, что революция в русском театре началась не в 1917 году, а в 1898-м, когда открылся МХАТ, т. е. отрывают от Октябрьской революции нарочно. Самое ценное в Мейерхольде — это связь с революционными силами в обществе. Сам уход Мейерхольда из МХАТа — это желание вторгаться в жизнь, дело не во второстепенных причинах. Он боролся против натурализма, а это для него было связано с обывательским подходом к жизни. Кого мы вспомним прежде всего в мировом театре — это Брехт, театр Пискатора. (Ушли Рудницкий, Плучек, Любимов, вообще стали уходить.) О „Балаганчике“ — главное, отражал трагизм жизни, отсюда и формальные особенности приемов. О связи с далеким будущим, остранение, отчуждение. К нам приезжают театры из-за рубежа, а мы говорим: да, мы это знали когда-то, не буквально, конечно».
Ситковецкая , сотрудник ЦГАЛИ [22]:
«Архив Мейерхольда сохранился благодаря гражданскому мужеству Эйзенштейна, который увез архив на дачу в 1940 году, где он хранился до 1948 года, до его смерти. Самый ранний документ — записная книжка 1896–1898 годов. Книжка 1901 года „Жизнь и смерть, только не сон“. Письмо к Немировичу — Данченко, где Мейерхольд критикует Станиславского. Еще никто не работает по истории театра Мейерхольда».
(Перечисляет документы.)
Штраух не пришел на конференцию, а должен был выступать. Он не хотел, чтобы «памятную доску» Мейерхольду открывал Царев, которого он считает предателем Мейерхольда.
Вечером из дома позвонила Зайцеву, он сказал, что Щербаков сегодня в горкоме отказался возглавить Театр на Бронной. Есть три варианта: главный режиссер, член коллегии и просто коллегия возглавляет театр. Звоню Тарасову — он ничего не знает.
Позвонил Львов — Анохин — Закшевер хочет послать «Дружину» Рощина в Комитет госбезопасности на консультацию, и чтобы это сделал сам театр. Рощин ушел из Управления, не стал слушать Родионова, сказав, что всему есть предел, и человеческой глупости, и человеческому терпению, «больше слушать не хочу», хочет идти до «верха», пусть решают.
Тарасов: «Дело зашло в тупик, я сейчас разговаривал с одной инстанцией, да, Щербаков отказался, но, если бы другой, такой как Алексидзе, например, но он тоже отказался». Пришла от Тарасова, рассказываю Будорагину, значит, дело не в фамилии, а в идее. Шумов устраивает истерику: «Забудьте про Эфроса, Эфрос, Эфрос, надо дело делать, вот в понедельник партсобрание, Вы должны материалы подготовить, а Вы забросили все». Тарасов еще сказал, что Родионов должен пойти к Фурцевой, и что Эфрос зря выступил на собрании с критикой в адрес Щербакова.
Понесла Тарасову на подпись «докладную» о злосчастном театре МГУ, так ему опять показалось что-то не так, недостаточно. «Вот надо, чтобы Владыкин видел, что там Захаров, Розовский, руководство, в общем-то, тоже». — «А что тоже?» — «Да вот с вывертом». — «Ну, они просто талантливы». — «Да, но у них что-то перевертывается…»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: