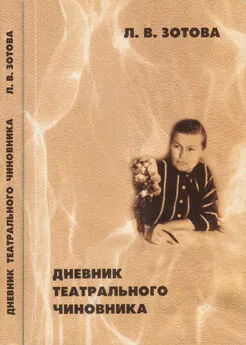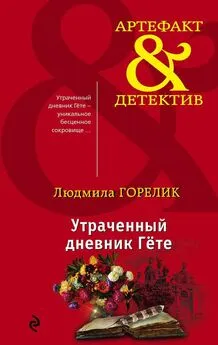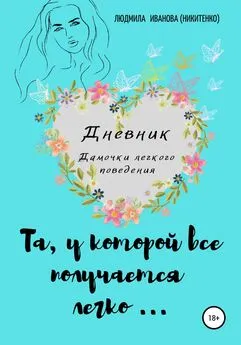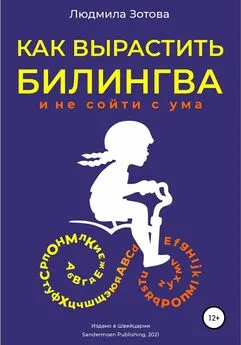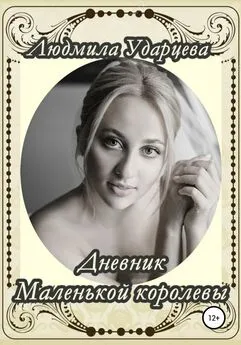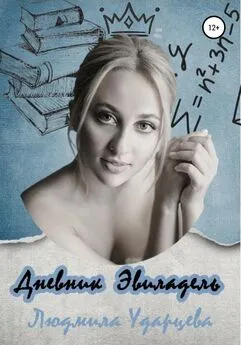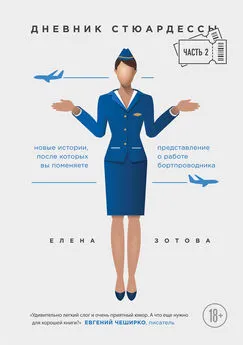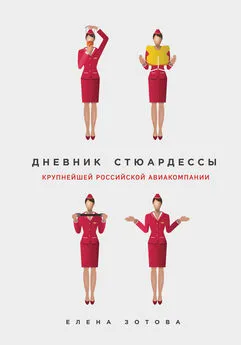Людмила Зотова - Дневник театрального чиновника (1966—1970)
- Название:Дневник театрального чиновника (1966—1970)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ПИК ВИНИТИ
- Год:2003
- Город:Москва
- ISBN:5-87334-050-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Людмила Зотова - Дневник театрального чиновника (1966—1970) краткое содержание
Окончив в 1959 году ГИТИС как ученица доктора искусствоведческих наук, профессора Бориса Владимировича Алперса, я поступила редактором в Репертуарный отдел «Союзгосцирка», где работала до 1964 года.
В том же году была переведена на должность инспектора в Управление театров Министерства культуры СССР, где и вела свой дневник, а с 1973 по 1988 год в «Союзконцерте» занималась планированием гастролей театров по стране и их творческих отчетов в Москве.
И мне бы не хотелось, чтобы читатель моего «Дневника» подумал, что я противопоставляю себя основным его персонажам.
Я тоже была «винтиком» бюрократической машины и до сих пор не решила для себя — полезным или вредным.
Может быть, полезным результатом моего пребывания в этом качестве и является этот «Дневник», отразивший в какой-то степени не только театральную атмосферу, но и приметы конца «оттепели» и перехода к закручиванию идеологических гаек.
Дневник театрального чиновника (1966—1970) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Зайцев (Театр на Бронной):
«За последнее время наш театр подвергся очень серьезной критике как со стороны руководящих товарищей, так и прессы. В феврале мы приступили к доработке спектакля „Три сестры“, в конце месяца мы показали проделанную работу руководству Управления театров Министерства культуры СССР и РСФСР, московского Управления культуры, нам сказали, что мы выравниваем в верном направлении. 19 апреля мы снова показали, и опять подтверждено, что мы многое сделали. Это прекрасная пьеса, спектакль нам дорог, и мы постараемся довести его. Спектакль „Колобашкин“ выпущен был поспешно, мы попытаемся его доработать, а если нужного результата не достигнем, то мы признаем, что ошиблись, и дальше будем более строги в отборе репертуара. Спектакль „Братская ГЭС“ нам очень дорог, нам хотелось, чтобы он был по-настоящему партийным. Новую пьесу Арбузова „Счастливые дни несчастливого человека“ Эфрос репетирует под пристальным вниманием главного режиссера Дунаева, который каждый день присутствует на репетиции. Главный режиссер заинтересовался композицией об Испании. Предполагаем поставить „Капитальный ремонт“.
Мы постараемся сделать все, чтобы наш театр работал в свете решений партии».
Баркан («Роман»):
«Самоотчеты вряд ли нужны, хотя, может, это надо было делать Михаилу Петровичу Зайцеву о своем театре. В докладе все подробно было изложено, но я хочу сказать пару слов. Только наша работа подтвердит меру нашей ответственности. Недодумки, просчеты часто происходят от драматургического материала, которым мы связаны. Нам нужна встреча с драматургами, чтобы найти контакты. О структуре театрального дела. Несовершенство построения театрального дела впрямую влияет на решение идейно-художественных задач».
Некрасов (Театр Моссовета):
«Поиски современной пьесы. Контакта не можем найти с драматургами. При оценках спектаклей много уделялось внимания тем спектаклям, которые не отвечают задачам времени. Почему ВТО не организовать обсуждение этих спектаклей — что, разве у нас нет настоящих критиков?»
Верченко (горком партии):
«„Нью — Йорк Таймс“ подсчитала, что существовало около 3-х тысяч теорий социального развития. И лишь одна теория за этот период не только не утратила своей актуальности, а все более развивается — это теория марксизма-ленинизма. Это больше всего и беспокоит империалистов, куда и с кем пойдут народные массы, интеллигенция и т. д. Поэтому их пропаганда направлена на Советский Союз, а конкретнее, на советскую интеллигенцию, на молодежь. В ФРГ был съезд советологов, где говорилось, что бесполезно беседовать с Иваном Ивановичем, а вот с Ваней, который растет, вот его надо направить. (Цитирует Брежнева, что в области идеологии не может быть мирного сосуществования.) В этой борьбе театрам, московским театрам принадлежит важная роль. Можно бы многое хвалить, но главное, все ли мы сделали, чтобы отвечать высокому призванию. С этих позиций мы о многом не можем промолчать. Много достижений на Таганке, но тем обиднее те просчеты, которые у Вас есть, Юрий Петрович, что нет достаточно цельной, точной перспективы. Вот выступление товарища Зайцева, да, если не получится, спектакль надо снимать, не может быть идейной двусмысленности, идейной неточности на сценах театров Москвы. Не снижать, а повысить требовательность за идейный уровень работы. Главный недостаток репертуара московских театров — отсутствие пьес высокой идейной значимости, узость тем, не всегда настоящий отбор. Враги наши хватаются за все, Гинзбург, Галансков — преступники, доказана их причастность к зарубежной пропаганде. Нам приятно, что творческие коллективы Москвы осудили их единогласно. Малый театр, МХАТ, Драматический театр, Театр на Таганке просили о выселении из Москвы Литвинова, Якира — этот бродильный фермент, нам это приятно. Несколько дней назад состоялось решение исполкома о праздновании 100-летнего юбилея Ленина, а во многих театрах эта тема присутствует еще лишь номинально».
Родионов (московское Управление культуры. Заключительное слово):
«Служебное совещание имело целью…» (Скандал, Губенко хочет зачитать решение комсомольского собрания.)
Любимов (прорывается на трибуну) :
«Вы нарушаете устав нашей партии, неудобно коммунисту затыкать рот. Создавать подлинные произведения искусства, а не агитки-однодневки, которые никому ничего не доказывают. Сегодня три года, как мы существуем. (Говорит о Брехте, о поэтическом спектакле, читает выдержки из прессы.) Тенденциозность — да, мы тенденциозны. „Потрудитесь построить социализм не только на энтузиазме, но и на личной заинтересованности и твердом хозяйственном расчете“, — Ленин. Вот девиз нашего спектакля „Живой“. Обстановки нет для работы. Факты известны, когда клеймят спектакль, не видя его, и из этого делают административные выводы».
Шапошникова (горком партии):
«Была группа участников совещания, настроенная определенным образом. Товарищ Любимов передернул. Критика в адрес театра была на партийной конференции, на восемнадцатой, на девятнадцатой. Критика шла от вышестоящих органов, от всей конференции, т. е. от всех коммунистов. Товарищ Любимов — оратор известный, он ссылался и на Гоголя, и на Горького, и мне очень обидно, почему я не могу промолчать, и на Ленина. А вот у товарища Любимова нет ответственности коммуниста, о которой говорил Ленин. Речь Владимира Ильича была широко напечатана, и партия никогда не закрывала глаза на недостатки. Вот „Живой“, вся пьеса обращена в прошлое, это недостатки 15-летней давности, ну давайте выступать по сегодняшним недостаткам, и Вы найдете у нас настоящую поддержку».
Утро. Шумов дает мне сегодняшнюю «Московскую правду», в которой напечатано сообщение: «Собрание театрального актива», где перечисляются выступавшие, и перед Верченко назван Любимов. И все так прекрасно, никакого скандала. Сам Шумов послан в театр на Бронную к Эфросу на репетицию арбузовской пьесы.
Партсобрание, открытое. Доклад Тарасова «Об улучшении работы Управления».
Тарасов:
«В связи с резким обострением идеологической борьбы между капитализмом и социализмом международная реакция направляет свои силы на войны и на буржуазную пропаганду против Советского Союза. Долг коммунистов — повышать бдительность, давать отпор любым попыткам протаскивания буржуазной идеологии. В свете этих критических замечаний мы и должны рассмотреть работу драматических театров и свою работу. Если в целом по стране, то в связи с подготовкой к 50-летию Октября много достижений. Но новых пьес на современную тему было написано мало — „Твой дядя Миша“, „Чрезвычайный посол“. Но большинство — не на главную тему. Закрытый конкурс дал недостаточные результаты. Хороших пьес не так много, да и то в республиках идут, Стельмах, Хухашвили. Вот „Человек и глобус“ — до сих пор нет сценического варианта. В Челябинске спектакль запретил обком, театр вытравил из пьесы положительное, а трудности создания атомной бомбы оставил, и вот спектакль запретили. Не довели мы с Малашенко „Человек и глобус“ до конца. Надо не бросать пьесу посередине. Вот и „Запах земли“ еще не до конца доработала коллегия. Надо перестроить практику работы коллегии, всегда классические пьесы создавались вместе с театром. Пьеса Салынского „Мужские беседы“ — очевидно, в пьесе допущен какой-то просчет, сейчас в ней нежизненный конфликт, тогда он был нехарактерным для работы партийных организаций. „Колобашкина“ в Лит направили, виноваты — и я, и Голдобин, и Осипов, и Симуков, беспринципность проявили. И „Аплодисменты“, и „Традиционный сбор“ нами до конца не были выверены. Это относится и к „Трилогии“ в „Современнике“, особенно к „Большевикам“. А если взять пьесы: „Утиная охота“ Вампилова — мрак и клевета, „Девочка, где ты живешь?“ Рощина — тоже серьезные ошибки, „Не хуже других“ Родионовой — те же ошибки, мрачно, — возникает вопрос о воспитании молодежи в Литературном институте: авторы этих пьес — все его воспитанники. Мрачный, пессимистичный взгляд на жизнь у некоторых драматургов нас настораживает: значит, плохая воспитательная работа. Узкая проблематика и в последних пьесах Арбузова, Радзинского, Алешина. Писатели бывают за рубежом, а нет ни одного произведения об этих странах, об их противоречиях, классовой борьбе. Это все результат издержек в идейно-воспитательной работе. Коллегии надо работать с теми, кто что-то может создать, а не редактировать плохие пьесы. Надо укрепить коллегию кадрами, способными решать эти вопросы. Теперь об Отделе по контролю. „Мистерия — буфф“ в Ленинграде, „Призыв моря“ в Латвии и ряд других спектаклей — конечно, за них отвечают прежде всего соответствующие управления культуры, но и на нас лежит своя доля ответственности. Малый театр и МХАТ мы контролируем слабо, критерий требовательности снижен. „Джон Рид“ в Малом театре — в этой пьесе я сам виноват, она по своим художественным качествам не имела права на эту сцену. Шумов плохо справляется с контролем за этими театрами, надо выделить для этих театров одного из инспекторов. В московских театрах появился ряд спектаклей, в которых жизнь советского общества показана в сгущенных красках, — „Братская ГЭС“, „Послушайте!“. Эфрос, Захаров, Фоменко так интерпретируют классику, как будто дело происходит сегодня. У Захарова реплики обращены прямо в зал. Очевидно, в этом сезоне этот спектакль и кончит свою жизнь, мы в московском Управлении договорились. Это же относится и к „Трем сестрам“. Но если говорить об Эфросе, то вот режиссер, который уходит из-под нашего влияния и поддается зарубежному. За это ответственность несут все, и прежде всего Зотова, как инспектор по московским театрам. В журнале „Театр“ Емельянов поддержал „Тарелкина“, Смелков заушательски обращался с мхатовской молодежью, ряд статей, восхваляющих Эфроса, Любимова, из которых сделали выдающиеся явления в режиссуре, надо укрепить его кадры. Наконец, о Любимове — он занял нетерпимую позицию. В пятницу на репетицию „Живой“ пригласил французских журналистов и устроил просмотр. Политический проходимец. Устроил этот инцидент на совещании, хотя неверно, что ему не дали слова. В Кировском райкоме готовится вопрос о нем на бюро. Укрепить наблюдение за московскими театрами, создать группу из двух-трех человек. Есть проблемы и в отделе, руководимом товарищем Кудрявцевым».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: