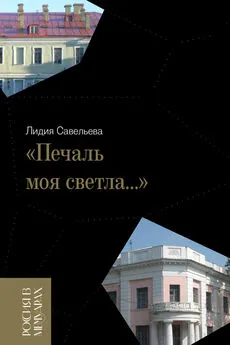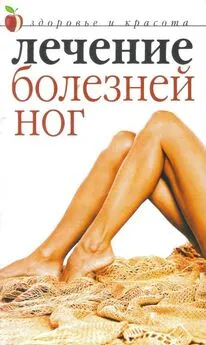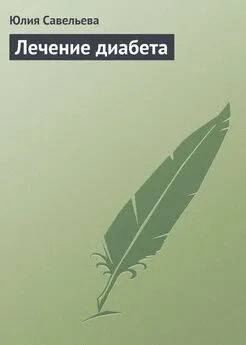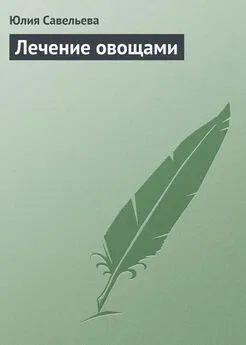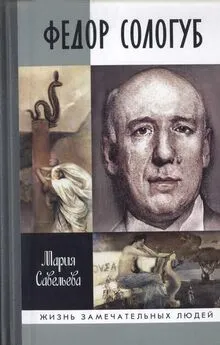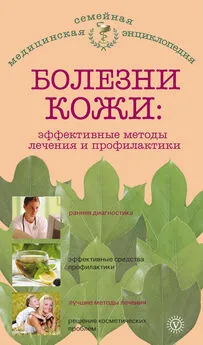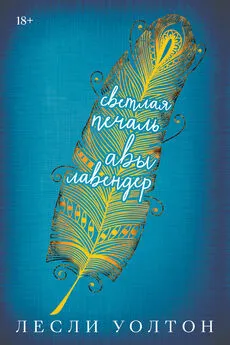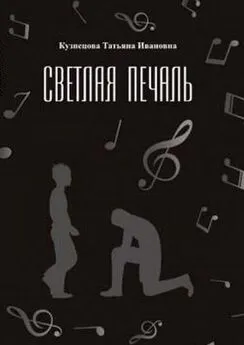Лидия Савельева - «Печаль моя светла…»
- Название:«Печаль моя светла…»
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент НЛО
- Год:2022
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-1676-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лидия Савельева - «Печаль моя светла…» краткое содержание
«Печаль моя светла…» - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Сам Аким Сергеевич был чертежником, притом неплохим, судя по тому, что в связи с Всемирной выставкой 1913 года, проходившей в Бельгии, заработал такие деньги, что, по словам отца, спился и для бабушки и их четверых детей стал неузнаваемым. Однажды после какой-то физической расправы с восьмилетним Володей она, очень любившая его, для отрезвления мужа скрепя сердце отдала сына на воспитание своей сестре – молодой учительнице, которая только приступала к работе в школе родного Скопина. Папа рос и воспитывался тетей Олей больше четырех лет, пока она не умерла от тифа, что стало для него первой жизненной трагедией. Когда он вернулся к родителям, отец стал к нему относиться хотя бы уважительно, иногда не без ехидства подсмеиваясь над его приобретенной «культурностью» и даже величая на вы, а мать не чаяла в нем души, впрочем, как и он в ней. Он сам признавался, что в детстве дрожал по поводу ее здоровья, больше всего боясь ее смерти после потери тети Оли. И вот отец, суровый, но, как говорил папа, все же справедливый, скончался внезапно, и рядом с ним оказался только младший сын, инвалид войны, так как папины сестры были далеко: одна, учительница, с мужем и детьми – где-то в Тамбовской области; другая, самая старшая, Зоя, геолог, – далеко в Монголии. Уезжая после похорон, папа оставил свою мать и дядю Колю в полной растерянности, не зная, как строить жизнь дальше, и в нетерпеливом ожидании деловитой и решительной Зои.
Когда же в декабре 1947 года была отменена карточная система и деноминированы деньги, тут только папа узнал, что по настоянию Зои они продали свой скопинский дом, чтобы купить какое-то жилье в Москве, но все эти деньги в ходе реформы у них почти сгорели, так как сумма уменьшилась в десять раз! Если у реформаторов, как они объявили, были благие намерения ударить по массовой спекуляции, то на самом деле дельцы теневой экономики только выиграли, зато у населения фактически были конфискованы все накопления. В бабушкином случае из-за нерасторопности (держали полученные перед реформой деньги дома, а не в сбербанке) пришелся самый сильный удар по наименее приспособленной к практической жизни семье.
И все же они как-то исполнили свое желание переехать в столицу, купив половину (удивительно, но так тогда разрешалось) большой комнаты в подвале на Таганке. Но, по словам моей бабушки Прасковьи Николаевны, окончившей три класса церковно-приходской школы, «Бог нас хранил и назначил в соседки» одинокую милую женщину, с которой они потом сроднились и даже плакали при разъезде, оставшись на всю жизнь близкими людьми.
Прощай, начальная школа
В 1948 году мы все успели побывать у скопинской бабушки еще на Таганке, причем застряли там надолго, пока не закончили нам делать прививки в живот от бешенства. Дело в том, что бедный маленький красавчик Джек, от души царапавший нас с Колей, чуть ли не сразу после нашего отъезда был замечен в подозрительно агрессивном поведении и признан ветеринаром бешеным, а потому нас с братом заставили на всякий случай терпеть эти уколы. Коле же сказали, что Джека забрали лечить в специальную больницу для собак. Хорошо, что московские музеи тогда вовремя отвлекли нас от его неожиданно трагической судьбы.
Папа в своей Москве, где, по его словам, «он знал и любил каждый камушек», был постоянно занят, и в музеи нас с мамой и братом водил дядя Коля. Будучи художником не столько по образованию, сколько в душе и для себя (впрочем, для себя он не только неплохо рисовал пейзажи, но еще и на скрипке играл в самодеятельном симфоническом оркестре, поразив меня неожиданными савельевскими генами), а также по практической работе в мастерской при кондитерской фабрике, он повез нас в центр в Музей изобразительных искусств. Это позже уже я узнала, какой замечательный замысел осуществил в нем его основатель профессор И. В. Цветаев, но все это тогда было, увы, не про нас. Оказалось, что там открыта лишь выставка подарков Сталину, которая по-своему поразила меня. Там были представлены его портреты зерном, колосками, разными камешками, в том числе и драгоценными, вышитые гладью и крестиком, большущие и малюсенькие ковры и гобелены с его изображениями, отпечатки фотографий на стекле, керамике, фарфоре, золоте, серебре, бронзе… Как много человеческого труда во всех концах страны было потрачено! Даже в тогдашней пионерской душе моей эта выставка вызвала осуждение. Дураки, зачем это ему? Лучше бы подарили самые-самые интересные книжки! Или самую-самую лучшую собаку, как мечтает Коля! Мне было понятно, почему все это из своего Кремля он выставил, отсюда и название выставка . Но оставаться долго под тиражированными глазами генералиссимуса явно было не по себе, мы все поспешили уйти, и помню, что я даже пожалела сидящую на стуле хранительницу.
В тот длинный экскурсионный день нашего Колечку более всего потряс Исторический музей, где его невозможно было оторвать от разного неинтересного мне оружия и вообще воинского снаряжения вроде кольчуг и лат, и я совсем не понимала, откуда эта его тяга, и даже пыталась ворчать и возмущаться: «Разве это интересно, чем отличается мортира от пищали?» Но мама и дядя Коля восприняли его историческую любознательность спокойно: «Ведь он же мальчик!» И папа слушал потом его с интересом и говорил, что это очень важно для общего развития, а мне должно быть стыдно, что меня занимает не важная часть истории страны, не чудесная архитектура в стиле XVI века, а какие-то глупые подарки Сталину.
Помнится, и борисовское лето, и потом московское укрепили во мне твердое представление о счастье. Счастье – это когда все живы-здоровы и едят вдоволь, а я – царица, если имею замечательную возможность читать, читать, читать то, что я выбрала сама, притом желательно лежа в приятной прохладе, не отрываясь на мытье посуды, уборку, походы за керосином в ближайшую лавочку и прочие ненавистные мне дела. Я даже размышляла: «Какой глупый Колька! Он хочет быть директором зоопарка. Конечно, это интересно возиться со зверями и птицами, ну а читать-то когда?» И крепко задумывалась: «Какую же специальность мне надо выбрать, где чтение было бы главным занятием?» К тому времени уже знала: явно не библиотекарскую, потому что у мамы в школе среди книжных полок блаженствовала без отрыва от чтения я, но не мама, которая служила мальчишкам, помогая им выбрать книжку или незаметно навести каждого на обсуждение прочитанного.
В общем, беззаботное и бесцелевое духовное потребительство в чистом виде просто захлестывало меня в ребячьем и подростковом возрасте. В начальной школе в своем свободном заоблачном парении я читала запоем и всякую всячину, даже смешно теперь, что в один неучебный день у меня могли встретиться «Разбойники» Фридриха Шиллера и русские богатыри из «Онежских былин» Гильфердинга (в редчайшем издании), Леночка Иконина из «Записок гимназистки» Л. Чарской с богами и героями профессора Н. А. Куна («Что рассказывают древние греки и римляне о своих богах и героях»), арабские сказки «Тысячи и одной ночи» чередовались с пионерскими повестями А. Мусатова, В. Осеевой, Н. Носова, «Дикая собака Динго» Фраермана – с «Дубровским» и «Неточкой Незвановой» Достоевского и т. д. до бесконечности. Если в папиной библиотеке практически не было читабельного мусора, то я его легко подцепляла в других местах: в двух школьных библиотеках (своей школы и маминой, маме было некогда всматриваться, что я там беру с полок: лишь бы ставила все по местам), даже просто у нас на чердаке в разрозненных приложениях к «Ниве». Все это зажигало, обеспечивало языки пламени, а иногда и просто раздувало в пожар детское воображение. Как же весело я хохотала, читая и перечитывая свои любимые малороссийские повести Гоголя, как обильно проливала слезы над превратностями судьбы Флоренс и ее несчастного братика («Домби и сын» Диккенса), а также мальчика Реми («Без семьи» Г. Мало), как буквально проваливалась в сладостное бытие сказочной жизни арабского Багдада, как ночами зачитывалась приключениями французских авторов – не только Г. Мало, но и В. Гюго, Жюля Верна, позже – Жорж Санд, полностью переместившись во времени и пространстве, буквально проживая чужую жизнь, ее драмы, взлеты и падения.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: