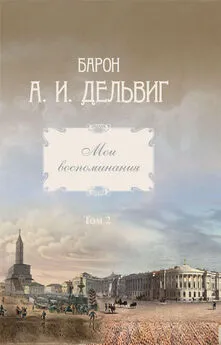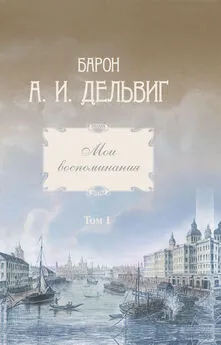Андрей Дельвиг - Мои воспоминания. Том 2. 1842-1858 гг. [litres]
- Название:Мои воспоминания. Том 2. 1842-1858 гг. [litres]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Нестор-История
- Год:2018
- Город:СПб.
- ISBN:978-5-44691-397-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Дельвиг - Мои воспоминания. Том 2. 1842-1858 гг. [litres] краткое содержание
Книга предназначена для историков-профессионалов, студентов, любителей российской истории. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Мои воспоминания. Том 2. 1842-1858 гг. [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
{В предыдущих главах «Моих воспоминаний» я неоднократно говорил о чудачествах моего дяди Д. А. Волконского; чтобы более не возвращаться к сему, я теперь же скажу, что он} и в следующие зимы приезжал в Москву, где известен был за величайшего чудака, как в Английском клубе, так и у его знакомых. Например, разъезжая в своих больших санях по Тверской и Кузнецкому мосту, он приказывал прибывшему к нему из деревни старосте провожать себя верхом на крестьянской лошади. Поез див так довольно долго, на диво всем его встречавшим, он отпускал старосту, сказав ему:
– Теперь довольно; мы себя показали.
Иногда в этих поездках по городу он кричал на всех перекрестках, что его племянник начальник железной дороги. Когда до меня дошло, что он провозглашает это, я ему заметил, что я вовсе не начальник железной дороги, и что его провозглашения мне очень неприятны. Он мне отвечал, что не имел вовсе меня в виду, а Зуева (Петра Павловича) {506}. Я ему объяснил, что и Зуев не начальник железной дороги, а помощник начальника, что родство его с Зуевыми чрезвычайно дальнее, и в Москве о Зуеве никто не имеет понятия, еще менее о том, что он ему – дальний родственник, а что меня все знают, и всем известно, что я ему родной племянник, почему и могут полагать, что я распускаю слух о моем назначении в начальники железной дороги. Но эти объяснения ни к чему не повели.
В первое время моего пребывания в Москве я довольно часто бывал у сенатора, генерал-адъютанта Сергея Павловича Шипова. 3 февраля, по случаю именин жены его Анны Евграфовны {507}, как-то попал к ним дядя мой Дмитрий, до того времени с ними незнакомый. Ужинать сел он за один стол со мной, с известным поэтом Федором Николаевичем Глинкой {508}и несколькими другими лицами. Узнав, что его сосед Глинка, дядя мой начал рассказ о том, с каким удовольствием он и все его родные и знакомые читали патриотические рассказы Сергея Николаевича Глинки, при чем называл по имени и отчеству множество лиц, живших 40 лет назад, описывая с мельчайшими подробностями, где и как он с ними виделся, и называл по имени даже прислугу некоторых из них. По окончании ужина, все решили, что давно не приводилось видеть такого допотопного чудака и неумолкаемого рассказчика. Дядя со своей женою ездил на несколько недель в Петербург, где так же куролесил, как и в Москве, но я не буду описывать его тамошних проказ. В своей задонской деревне, где он жил летом, он продолжал безобразничать, несмотря на то, что был в 1844 г. сильно побит крестьянами; мне рассказывали, что он раз, при приезде в деревню, требовал, чтобы крестьянки встретили его и жену сгорбившись, опираясь на землю руками и повернувшись к ним спинами. Он умер ударом незадолго до Манифеста об освобождении крестьян; не могу себе вообразить, в какое положение привел бы его этот манифест, если бы он до него дожил.
В мае 1853 г. А. И. Нарышкин со своим семейством уехал в орловскую деревню, оставив у нас своего старшего сына Сергея {509}, оканчивавшего курс в гимназии. Жена моя, большая охотница до всякой ручной работы, между прочим, занималась и стрельбой из пистолета. Молодой Нарышкин принимал участие в этой стрельбе и по неосторожности повредил себе палец. Это не имело последствий, но подало повод отцу его, вскоре возвратившемуся из деревни, к прочим шуткам, которыми он осыпал жену мою, им очень любимую и уважаемую, прибавить еще то, что она отстреливает пальцы у вверяемых ей детей.
На лето мы наняли дачу в предместье Москвы, Богородском, на р. Яузе. Жена моя, большая охотница до рыбной ловли удочкой, иногда вставала в 5-м часу утра и до полудня занималась этой ловлей, которая постоянно была неудачна; вероятно, рыба в Яузе слишком сыта, чтобы прельщаться червяком удочки; я же, шутя, уверял, что подстоличная рыба слишком умна, чтобы попасться на удочку. В Богородском был небольшой пруд, в котором жена моя также ловила рыбу; по незначительному количеству рыбы в пруде, ее ловилось мало. В одно воскресенье крестьяне Богородского принесли нам целое ведро рыбы, которую они неводом изловили в пруде, говоря, что они сжалились над барыней, сидящею под пекущим солнцем и почти ничего не ловящею, при чем просили хотя малостью вознаградить их труд. Таким образом, выловив всю рыбу из пруда, они лишили жену мою удовольствия. Перед нашей дачей было чистое поле; жена моя часто стреляла из пистолета, а так как перед решеткою нашего садика собиралось всегда много детей, то это подало повод Нарышкину к новой шутке над женой; он говорил, что она перестреляла всех детей в Богородском. Мы часто гуляли по окрестным рощам и собирали в них всякого рода растения, до которых жена моя была также большая охотница; в одну из этих прогулок с Нарышкиным мы нашли дикий желтый розан; жена посадила его в свой садик. За пересаживание всех растений и в особенности желтого розана, Нарышкин беспрерывно подшучивал над моею женой.
Живя в Богородском, жена получила известие, что старый друг ее Александра Николаевна Шубина приехала в Москву больная. Я ее навестил и нашел, что она страдает душевным недугом. По просьбе жены моей, я ее перевез на нашу дачу в Богородское, где, стараниями и уходом за ней моей жены, она излечилась от душевного недуга, который тем более страшил нас, что ее мать уже давно сошла с ума и в глубокой старости находилась в том же положении. A. Н. Шубина, по своей охоте к деятельности, лицо весьма замечательное, а потому я скажу о ней несколько слов. Ее отец {510}, в своем доме, в Москве на Малой Дмитровке, когда я был еще холостяком, – давал танцевальные вечера, на которых бывал я и дочери H. В. Левашова, дружные с дочерьми Шубина. По смерти последнего, довольно значительное состояние попало в руки его сыновей, которые запутались до того, что все их имение назначено было в аукционную продажу. Родная их тетка, лучший друг моей покойной тещи – Е. П. [ Екатерина Петровна ] Дубянская {511}, жившая до самой своей смерти в доме генерал-адъютанта Николая Васильевича Зиновьева (в Петербурге на Фонтанке близ Аничкова моста), которому по мужу {512}она приходилась родной теткой, полагала сделать наследницей своего небольшого капитала A. H. Шубину, большую часть года жившую с нею.
По жажде к деятельности, Шубина привезла с собой в Петербург из Дивеевской общины {513}, находящейся в Нижегородской губернии, несколько не постриженных монахинь, которых, поместив в доме Зиновьева, обучала живописи сначала сама, а потом через хороших учителей с тем, чтобы сделать их со временем учительницами иконописи в школе, которую Шубина намеревалась учредить при Дивеевской общине. Монахини, при необыкновенном усердии к учению, очень скоро сделались хорошими живописцами, и тогда для дальнейшего изучения живописи начали каждый день ходить в мастерские строившегося Исаакиевского собора. Монахини были молоды, и между ними были хорошенькие собой, особливо Софья Васильевна н, дочь пензенского помещика Птенцован, получившая довольно хорошее образование. В Петербурге, живя в Троицком переулке, против дома Зиновьева, мы ежедневно виделись с Шубиной, и я, ввиду ее беспрерывной заботы о Дивеевской общине, называл ее игуменьею, к чему она прибавляла, сильно картавя: «порожнего монастыря». Шубина после многолетних забот о Дивеевской общине, вследствие каких-то интриг, доходивших до Синода, решилась совсем отказаться от той общины, но несколько монахинь, оставшихся ей верными, сначала поселились под ее покровительством в новой общине, а впоследствии Шубина устроила в своем владимирском имении общину из нескольких десятков монахов, которые занимаются преимущественно писанием икон, и я, шутя, говорил ей, что она уже теперь игуменья «не порожнего монастыря». Чтобы избавить от аукционной продажи имения своих братьев, Шубина уплатила часть их долгов капиталом, который она взяла у своей тетки Дубянской еще при ее жизни, и приняла в свое управление означенные имения, обещав давать братьям известные суммы содержания.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Андрей Дельвиг - Мои воспоминания. Том 2. 1842-1858 гг. [litres]](/books/1142742/andrej-delvig-moi-vospominaniya-tom-2-1842.webp)


![Андрей Васильев - Квадратура круга. Том 2 [СИ litres]](/books/1075900/andrej-vasilev-kvadratura-kruga-tom-2-si-litres.webp)
![Андрей Васильев - Файролл. Квадратура круга. Том 1 [litres, СИ]](/books/1089027/andrej-vasilev-fajroll-kvadratura-kruga-tom-1.webp)
![Андрей Васильев - Файролл. Снисхождение. Том 2 [litres]](/books/1091118/andrej-vasilev-fajroll-snishozhdenie-tom-2-litr.webp)
![Андрей Васильев - Файролл. Снисхождение. Том 3 [litres]](/books/1091119/andrej-vasilev-fajroll-snishozhdenie-tom-3-litr.webp)
![Андрей Васильев - Квадратура круга. Том 4 [СИ litres]](/books/1145926/andrej-vasilev-kvadratura-kruga-tom-4-si-litres.webp)