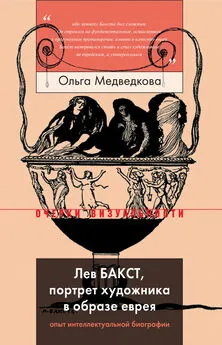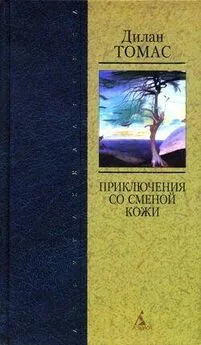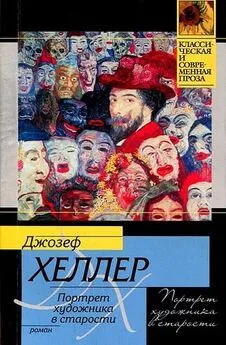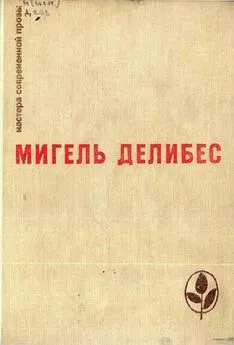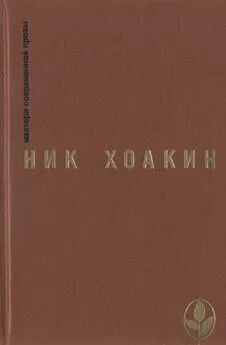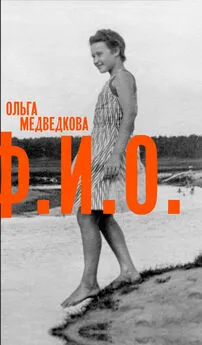Ольга Медведкова - Лев Бакст, портрет художника в образе еврея
- Название:Лев Бакст, портрет художника в образе еврея
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент НЛО
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-1341-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ольга Медведкова - Лев Бакст, портрет художника в образе еврея краткое содержание
Лев Бакст, портрет художника в образе еврея - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Введенный Бакстом в балет еврейский танец представляет отдельный интерес для нашей темы. Нам известны эскизы костюмов двух еврейских пар для «Клеопатры» [680] Частное собрание. Воспроизведение см.: L’Art décoratif de Léon Bakst , op. cit. Рl. 18–19; 21–22. Один из эскизов принадлежал знаменитой писательнице, подруге Вирджинии Вулф баронессе Сэквилл, другой – парижскому кутюрье, коллекционеру и основателю Библиотеки истории искусства Жаку Дусе, у которого было целое собрание эскизов Бакста; часть их он передал в Музей декоративного искусства.
(илл. 16–19). Мужские фигуры представлены на них в безудержном прыжке; один из танцоров ударяет себя бубном по голове, другой производит кистями рук сложное, вычурное движение. Откуда Бакст взял такое представление о «еврейском танце»? В Библии многократно упоминаются ликующие и танцующие персонажи с тимпанами. Сам царь Давид, как известно, обнажался, скакал и плясал перед ковчегом и при освящении своего дома. И его даже за это критиковали. В статье «Пляска» из ЕЭБЭ Абрам Соломонович Каменецкий писал, ссылаясь на Еврейскую археологию Бенцингера [681] Benzinger, Hebräische Archäologie , 1907.
: «Уже то обстоятельство, что понятие „праздник“ обозначается по-еврейски, между прочим, и словом חג [682] праздник ( иврит ); благодарю за перевод Лёлю Кантор.
, которое первоначально значило пляску, – показывает, что это выражение чувства радости посредством ритмических телодвижений играло большую роль в общественной жизни древнего Израиля» [683] «Пляска», ЕЭБЭ, т. 12, стлб. 589–590.
. Нам кажется, что именно о таких еврейских священных плясках и думал Бакст, создавая эти костюмы.
С формальной точки зрения, еврейские костюмы Бакста являлись вариациями на тему многокрасочной «восточной» праздничной одежды евреев Северной Африки, так называемых сефардов, а отнюдь не той традиционной черно-белой одежды, что носили евреи в Восточной Европе, – одежды, бывшей вариантом европейского (голландского) костюма XVII века. Для воссоздания «древнего» еврейского костюма Бакст, как и многие до него веривший в то, что не знающий перемен Восток является идеальным хранителем прошлого, погружался в традицию еврейства именно восточного. На популярных в конце XIX века фотографиях алжирских евреев мог он, например, наблюдать эти короткие, выше колена пышные штаны, перепоясанные шелковым поясом рубашки, яркие плащи-накидки без рукавов и, конечно, тюрбаны. Что касается женщин, то они были представлены Бакстом с повязанными платками головами. При этом – так же точно, как и вакханки – они скидывали с себя тяжелые покрывала и приплясывали, улыбаясь, в своих полупрозрачных рубашках, полунагие, с округлыми животами и согнутыми коленями, с браслетами на предплечьях и щиколотках [684] См. для сравнения: Gérard Silvain, Sépharades et Juifs d’ailleurs , Paris, Adam Biro, 2001.
. Малопрописанное, едва обозначенное лицо сочеталось здесь с подчеркнутой эротикой гениталий. Одним из рисунков с изображением танцующей еврейки Бакст проиллюстрировал в книге Современный балет текст, посвященный красоте нагого тела в Древней Греции и танцу семи покрывал. Другими иллюстрациями этой главы послужил рисунок Беотийских вакханок из балета «Нарцисс» и танцующий античный Фавн из Неаполя. Ведь вакхическая пляска была, по Лукиану, изобретена именно сатирами, спутниками Диониса. Три главнейших ее вида – кордак, сикинида и эммелия – получили свои названия по именам трех сатиров: пляски эти были частью мистерий.
Так прописал Бакст «контекст», в который встал у него еврейский танец. Неудивительно поэтому, что и в орнаменте тканей еврейских костюмов он использовал помимо «узнаваемых», но вполне деликатно введенных полос те же элементы, что и в греческих костюмах вакханок: точки и круги с легким наполнением в центре [685] Интересно, что один из двух женских костюмов был подписан Бакстом «моему другу Андре Саглио». Известный более под псевдонимом Дреза (1869–1929), Саглио был художником, писателем и организатором выставок; его отец Эдмонд Саглио был хранителем в Лувре и в музее Клюни, одним из двух авторов десятитомного Словаря греческих и римских древностей . Посвящение Бакста – свидетельство его причастности той культурной среде, в которой он вращался в Париже и которая была способна оценить его постановки ( L’art décoratif de Léon Bakst , op. cit. Рl. 19).
. Этот орнаментальный язык и обнаженность персонажей в сочетании с энергией, безудержностью и раскованностью движений, выражающих радость и приятие жизни – собственно жизнь, ее победу над смертью, – объединяли греческий и еврейский мир, следуя той интеллектуальной модели, которую мы попытались описать выше и для которой главной идеологической основой послужило Баксту русское ницшеанство. Заметим, что именно в 1909 году, когда Бакст создавал в Париже «Клеопатру», в Петербурге вышел первый номер журнала Аполлон [686] Журнал был основан по инициативе Сергея Константиновича Маковского (1877–1962). Первый номер вышел в октябре 1909 г.; выходил в Петербурге до 1917 г. До 1911 г. он был ежемесячным.
, ставшего преемником Мира искусства .
Аполлон и Дионис
Название журнала прямо указывало на его философскую ориентацию. Еще более отчетливо заявляли о ней вступление и первое эссе «В ожидании гимна Аполлону», а также обложка и фронтиспис. Тексты были написаны Бенуа, а обложка и фронтиспис нарисованы Бакстом (илл. 20–21). Тексты Бенуа были до такой степени насыщены ницшеанскими темами, что подчас казались переводом с немецкого:
«Близится бог, и уже стонет земля, извергая покойников, и уже поднялись всюду лжепророки и звери, чтобы начать решительную борьбу. Но только близится бог преображенный и во всей своей славе. И вот что начинает казаться: это встающее солнце – не мститель Иегова, не печальный и темный лик византийских икон, не грозный усталый Геракл Микель-Анджело, а светлый Бог, издавна знакомый и любимый… лучезарный и благий. Как могло человечество забыть его? ‹…› Будто бы распяли Диониса, брата его. И правда распяли. Но распятый уже воскрес и бросился в толпу распявших, любовно опьянил их кровью своей, завел тайный и радостный хоровод, от зачавшегося пляса которого уже дрожит вселенная, и глыбами валятся кумиры лжебогов. Уже началась общая вакханалия, покамест еще ночная, дикая, нескладная и даже богохульная. Но ведь явится Бог, и повеленная судьбой, развратная смятенность превратится в стройный танец, в истинную литургию. Из лесов, с полей вернутся вереницы озверевших в новый, священный град» [687] Александр Бенуа, «В ожидании гимна Аполлону», Аполлон , № 1, октябрь 1909. С. 6.
.
Как в ницшеанском Рождении трагедии , дионисийское искусство выражало себя, по мысли Бенуа, прежде всего в вакхическом плясе. Этот «философский» танец освобождения от тяжести бытия и приятия жизни и стал идеальным символическим прототипом первых дягилевских балетов. Кажется, что вся программа Русских сезонов была уже предначертана в этом парафразе Ницше: «Да и братья ли это? Не два ли здесь лика одного святодателя? Сон и опьянение – дары их – не два ли выражения или две стадии одного и того же восторга? Два божественных брата, действительно, близки друг другу, если они разнятся и глубоко проходит расщелина между ними, то все же еще глубже, совсем на дне, корни их сплетаются и сливаются воедино» [688] Александр Бенуа, «В ожидании гимна Аполлону», Аполлон , № 1, октябрь 1909. С. 6.
.
Интервал:
Закладка: