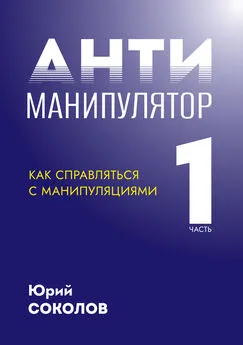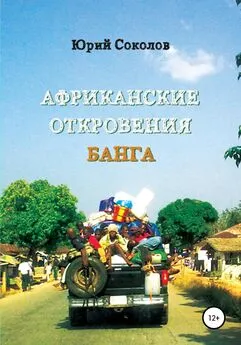Юрий Соколов - Пока живы — надо встречаться
- Название:Пока живы — надо встречаться
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1988
- Город:Москва
- ISBN:5-265-00073-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Соколов - Пока живы — надо встречаться краткое содержание
Пока живы — надо встречаться - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Он также сообщал, что вот уже сорок лет им ничего неизвестно об отце, и вот теперь, когда все родственники узнали из повести о тех трагических событиях, он хотел бы кое-что рассказать о семье Григория Федорова по воспоминаниям своей матери Анны Владимировны.
«Когда началась война, отца три месяца не брали в армию из-за отсутствия двух пальцев. И только в ноябре сорок первого его призвали в армию.
Немцы подходили к Донбассу, и мама забрала нас — детей, и поехала в Сариновку, надеясь, что туда немцы не дойдут. Но уже у станции Зверево наш поезд разбомбили, это я уже и сам помню, кое-как мы добрались в Сариновку до бабушек, а через несколько дней туда пришли немцы. Больше года прожили мы на хуторе Красин в оккупации. Осенью 1943 года, после изгнания немцев из Ростовской области и из Донбасса, мама снова вернулась на «Володарку». И только тогда мамина подруга передала ей письмо от отца. Письмо пришло, когда мы уже уехали, и почтальон оставил его у подруги мамы. За все годы войны это первое и последнее письмо от отца, в котором он сообщал, что служит в саперных войсках и что находится на Сталинградском фронте.
В конце декабря 1946 года мама получила из военкомата извещение — оно датировано 16 декабря 1946 года, — в котором сообщалось, что «Ваш муж, красноармеец, уроженец Ростовской области — Федоров Григорий Иванович, в бою за Советскую Родину, в апреле 1943 года пропал без вести».
Мама говорит, что отец любил ее, любил нас — детей, и она не удивляется, что он готовился к побегу, надеясь когда-нибудь вернуться к своей семье. Отец был смелым шахтером. Когда был завал на шахте Любимовка, он, спасая товарищей, потерял два пальца…
Отец любил нашу шахту, наш Донбасс. Как передовой шахтер, он много зарабатывал, но не пил, и жили мы на «Володарке» до войны очень хорошо. После войны маме было трудно одной поднимать нас, троих детей. Она долго ждала отца, но не дождалась. Всех нас она поставила на ноги. И все мы — дети Григория Федорова — стали честными, хорошими рабочими. Старший брат Саша одно время работал в той же лаве, где когда-то работал и отец, а теперь, последние двадцать лет, он работает столяром и плотником. Сестра Алла до сих пор работает на той же шахте — сортирует уголь. А я стал строителем, инженером, кандидатом технических наук. Хотя отец сам был малограмотным, но он отдал свою жизнь за нас, за то, чтобы мы жили хорошо.
Вот вкратце и все, о чем хотел вам сообщить. Высылаю вам фотографию своего отца. Она переснята с портрета. Снимок сделан весной 1941 года…»
Я рассматривал фотографию мужчины лет тридцати. Он был в новенькой фуражке, пиджаке, в отутюженной, застегнутой на все пуговицы сорочке. Смотрел прямо, серьезно.
Всматриваясь в черты его волевого лица, я не сомневался, что именно таким и был Гриша Федоров, шахтер с «Володарки».
А тут пришло письмо от Сусанова Николая Дмитриевича.
«Когда читал «Побег», я не мог отделаться от ощущения, будто снова я нахожусь в душной теснине под землей той ночью 22 ноября 1943 года. Все вспомнилось: и дела, и люди, такие близкие и дорогие моему сердцу… Я счастлив, что дожил до тех дней, когда наконец сказана правда о моих товарищах и друзьях, в том числе и обо мне».
В тот же день я уже стоял у кассы на Курском вокзале. За час до отхода поезда мне удалось купить билет до Орла. Стоя у открытого вагонного окна и подставляя лицо встречному ветру, я мысленно представлял, как будет Николай Дмитриевич рассматривать фотографию Федорова.
Утром я был в Орле, на городской автобусной станции, потом пересел на рейсовый автобус до Верховья и только днем на местном «пазике» смог уехать в Корсунь.
Волнение ли от предстоящей встречи тому причиной, а может, завязавшийся разговор со случайным попутчиком, но только двадцать пять километров среди зеленеющих полей, окаймленных перелесками и прозрачными рощицами, пролетели незаметно.
Автобус медленно поднимался в гору. Слева от дороги показалась молодая поросль, а среди деревьев возвышался металлический обелиск, увенчанный звездой. Вот уж поистине народный памятник защитникам Родины. Клумба цветов, посыпанные песком дорожки, молодые березки, рябина, клены, елочки и каштаны — все говорило о бережном отношении к священному месту.
— Это у нас парк Победы, — пояснил мой попутчик. — Школьники так назвали это место.
Проезжая мимо обелиска, водитель сбавил скорость и протяжным гудком салютовал погибшим героям.
— Мимо этого места никто не проходит равнодушно, — продолжал мой собеседник. — Давеча старушка низко-низко поклонилась обелиску… А вы к кому будете в Корсунь?
— К Сусанову. Может, знаете?
— Николая Митрича?! Ну ка-ак же! — с гордостью произнес он. — С сорок шестого вместе. Я тогда шоферил, а он учительствовал… Судьбина у него, — он протяжно вздохнул и мотнул головой, — не позавидуешь…
Автобус катился в низинку мимо только что выстроенных кирпичных домиков, у старой ракиты он развернулся и остановился перед зеленой рощей. Пассажиры потянулись к выходу.
Справа от дороги я увидел магазин, столовую, правление колхоза и сельсовет, клуб, а дальше тянулись жилые дома с кустарниками перед окнами. Слева шумел листвою обширный парк с липами, кленами, березами. И среди этих деревьев светлели стены двухэтажной школы, видны были и спортивные сооружения, площадка детского сада.
С Сусановым я встретился у порога школы. Пожилой, грузноватый, немного сутулый, с доброй усмешкой и внимательным взглядом серых глаз, он шагнул мне навстречу, и мы крепко, по-мужски обнялись. Несмотря на возраст и тяжелое прошлое, мне радостно было видеть этого человека таким крепким и энергичным.
На крыльце учительского дома, построенного на школьной усадьбе, по соседству с интернатом, встретила нас Александра Зиновьевна, жена Сусанова. Она уже на пенсии, но все еще работает, преподает географию.
В опрятной комнатке с простой, но самой необходимой для обихода обстановкой сразу же возник непринужденный, лишенный всякой натянутости разговор, сначала, как обычно, о погоде и видах на урожай, а потом как-то незаметно Сусанов перешел к своему детству в бедной деревне на Орловщине, рассказал о своей матери — делегатке женсовета, о первых своих учителях, о председателе колхоза — двадцатипятитысячнике, который посоветовал ему тогда учиться на педрабфаке.
Рассказывал Николай Дмитриевич об этих людях с тихой, сдержанной радостью. Затем разговор зашел о проблемах воспитания.
— Была б моя воля, — говорил Сусанов, — в педагогический институт принимал бы самых преданных людей и обязательно трудолюбивых. Не по оценкам в аттестате зрелости, а по отношению к труду, к людям и к жизни. Учитель должен любить людей. Он ведь как хороший отец, а дети должны идти за своими отцами.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
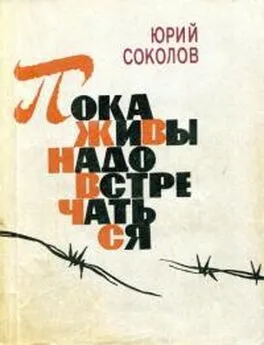

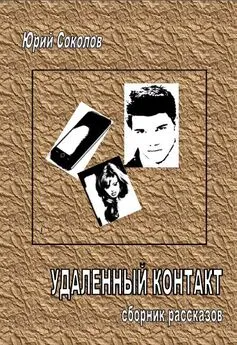
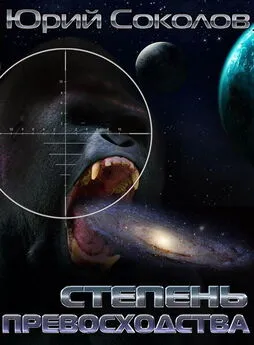
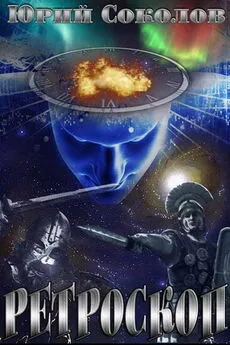
![Юрий Соколов - Войны с Японией [От поражения к Победе. К 110-летию окончания Русско-японской войны 1904–1905 гг. и к 70-летию окончания Советско-японской войны 1945 г.]](/books/1079664/yurij-sokolov-vojny-s-yaponiej-ot-porazheniya-k-pobede-k-110-letiyu-okonchaniya-russko-yaponskoj-vojny-1904-1905-gg-i-k-70-letiyu-okonchaniya-sovetsko-yapons.webp)