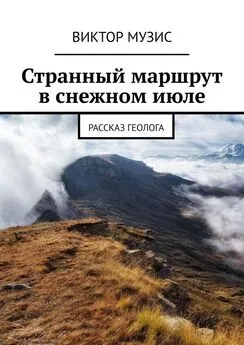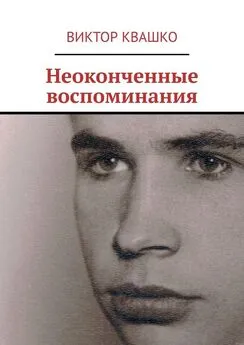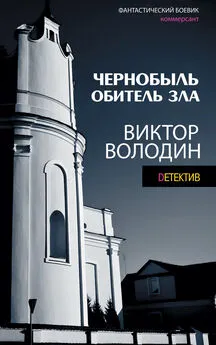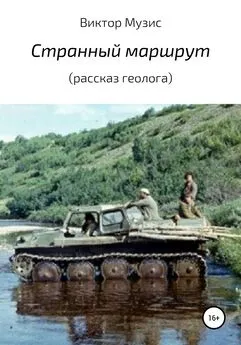Виктор Володин - Неоконченный маршрут. Воспоминания о Колыме 30-40-х годов
- Название:Неоконченный маршрут. Воспоминания о Колыме 30-40-х годов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Охотник
- Год:2014
- Город:Магадан
- ISBN:978-5-906641-08-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Володин - Неоконченный маршрут. Воспоминания о Колыме 30-40-х годов краткое содержание
Эта книга — не просто мемуары геолога, это воспоминания, написанные языком, которому может позавидовать профессиональный литератор. Жизнь на Колыме предстает перед читателем в многообразии геологического жития, в непростых человеческих взаимоотношениях, в деталях быта, в постоянном напряжении от существования в состоянии необъявленной войны с заключенными, в ежедневном преодолении… Десятки геологов: Борис Флеров, Валентин Цареградский, Алексей Васьковский, Сергей Смирнов, Евгений Машко, Израиль Драбкин, Николай Аникеев, Владимир Титов… горняки, прорабы, руководители и рабочие предстают перед нами в этой книге. И образы эти реальны, наделены человеческими чертами, ясны характеры этих людей, мотивы их поступков…
Неоконченный маршрут. Воспоминания о Колыме 30-40-х годов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Еще удивительнее было то, что очень многие из выдвинутых кандидатов, если не все, были вскоре действительно награждены. Среди них оказался и сменивший меня на месте начальника разведки Д. И. Овчинников, вернувшийся только что из отпуска. Как-то в разговоре по радио из Усть-Утиной сообщили фамилии награжденных орденами, и среди них была фамилия Овчинникова. Он был счастлив, как ребенок. Просто блаженствовал от счастья, по нескольку раз в день повторяя: «Орденоносец! Просто не верится!». Впрочем, это было бы действительно слишком несправедливо, если было бы правдой. Но этого не произошло. Выяснилось, что ему дали не орден, а медаль «За трудовое отличие». Он был не только разочарован, а по-настоящему оскорблен в своих лучших чувствах. До того он привык к мысли, что он орденоносец. Было непонятно, почему же он говорил, что ему не верится, когда сам был уверен, что он орденоносец. До того высокое у него было самомнение, что он не сомневался в том, что, только что окончив техникум и проработав всего два с половиной года, он вполне заслужил орден. Комментарии здесь не нужны. В действительности, конечно, он получил и так больше, чем заслужил.
Северное сияние
Я, наконец, приступил к работе. Ее было мало, но я понимал, что летом, когда можно развернуть поиски новых рудных жил, возрастет и фронт разведочных работ, работы будет больше и она станет интереснее.
Проходила середина зимы. Довольно устойчиво держались очень сильные морозы. У меня был спиртовый термометр, привезенный из Владивостока. Я регулярно измерял температуру до тех пор, пока у меня не попросили одолжить свой термометр на прииск, потому что у них не было, а им нужно было актировать дни, когда морозы были очень сильные — ниже 55 градусов мороза.
Я постепенно привыкал к местному климату, к свирепым морозам, к тому, что работы на открытом воздухе прекращаются только при такой низкой температуре. Привыкал и к другим довольно неожиданным вещам. Например, к тому, что у нас на рудной разведке и особенно там, где велись работы наверху, на склоне сопки бывало заметно теплее, чем на прииске. Впрочем, это было не всегда. Исключение составляли дни, когда разыгрывалась пурга и воздух различных слоев, отстаивающихся и разделяющихся в тихую погоду, перемешивался. Это всегда было заметно — только подует ветер, сразу же становится теплее в домиках за счет упомянутого перемешивания воздуха.
Удивляло меня и то, что при очень низких температурах потепление или похолодание всего на 1–2 градуса всегда очень заметно.
Вскоре после приезда я увидел и северное сияние, правда, слабое, тусклое и некрасивое, одноцветное. За эту зиму я видел сияние несколько раз, и всегда почему-то оно бывало таким же тусклым, одноцветным и слабым. Цвет его был каким-то желтовато-зеленовато-серым, причем слабо светящееся пятно, довольно большое, с нерезкими размытыми очертаниями, дугообразной верхней границей, похожее на облако, занимало всегда нижнюю четверть или треть северной части небосвода. Оно неподвижно стояло на севере, не меняя места.
Позднее в другие годы и в других местах, в поселках Иганджа и Усть-Омчуг мне приходилось видеть гораздо более красивое сияние, непрерывно движущееся и притом цветное или багровое, неподвижное. Но, в общем, явление это редкое, и наблюдать его приходилось не каждому. Конечно, это должно быть только в наших относительно низких широтах. Несомненно, что в более высоких оно наблюдается чаще. Вероятно, играет роль и то, что явление это происходит ночью, чаще во второй ее половине, когда люди спят, и видят его немногие.
Чаще оно бывало не в середине зимы, а в конце ее или ранней весной. Помню, однажды в марте 1941 года в поселке Иганджа я видел особенно красивое сияние. Именно только о таком сиянии можно сказать, что оно играет, и, вероятно, только к нему применяется название «сполохи».
Вероятно, незадолго до полуночи я увидел световые столбы, немного напоминающие лучи прожектора, но более слабые, вертикально торчавшие в северной части неба. Я сразу же обратил внимание на то, что они постепенно вытягиваются вверх и что их становится все больше, и что, наконец, они охватили весь горизонт и достигли зенита, сошлись там, образуя звезду. Потом они как бы оторвались от горизонта, а в центре звезды в зените, состоящей из довольно сильно светящихся желтовато-зеленовато-серых лучей, появилась другая звезда, вписанная в первую, багровая или темнокрасная, кажется, еще с одной — алой звездой в середине.
Все эти изменения формы и цвета сияния происходили быстро, потому что я успел увидеть все это, вероятно, недолго находясь под открытым небом на морозе. Два или три раза я наблюдал сияния в Усть-Омчуге. Впрочем, этих случаев было, вероятно, больше, но они забылись. Один из таких случаев был в начале зимы 1946 или 1947 года в начале ночи. Это было обычное неподвижное облако, тускло светящееся в нижней части северного небосклона, а в правой части этого пятна или облака тоже неподвижно сияло другое, меньших размеров пятно темно-красное или темно-багровое, вытянутое в вертикальном направлении.
Итак, я часто посещал свои разведочные объекты, часто бывал и на прииске, так как скучно было сидеть в своем бараке. Впрочем, развлечений никаких не было и на прииске. Часто ходил на охоту, большей частью в долине своего ручья Лазо, где нередко появлялись куропатки-горняшки. Их было довольно много, и подстрелить одну-две иногда удавалось. Ходил я и за перевал в долину смежного ручья Заманчивого, в котором стояла нетронутая тайга, лежал глубокий снег, испещренный следами белок, горностаев, зайцев и куропаток. Но карабкаться туда по крутым склонам на лыжах было трудно, а первая моя вылазка туда в выходной день была неудачна, да и лыжи были плохие. Поэтому я так и не собрался пойти туда вторично.
Ставил я как-то с Бауманом проволочные петли на заячьих тропах, но поймать зайца мне не удалось. А Бандура как-то поймал зайца. Но это было уже к концу зимы, должно быть, в феврале, когда приехали Овчинников и два коллектора из Криворожья — Пухкало и Барабанов. Жил у нас тогда временно и механик Калинин, строивший маленькую электростанцию у нас для освещения штольни и бараков. Помню, он с брезгливостью отнесся к пойманному в петлю и задушенному, по его мнению, все равно что дохлому зайцу. И вот тогда мы, чтобы проучить его, нажарили куропаток и вместе с ними сжарили зайца и зайцем накормили Калинина, который ел его, думая, что это куропатка, и не заметил даже, что кости в том мясе, которое он ел, были толстые, явно не птичьи.
Бандура как-то заметил возле нашего барака на снегу следы горностая и решил его поймать в ледянку. Ледянка — это остроумная ловушка, которую нетрудно сделать зимой. Он наполнил водой ведро и поставил его на морозе. Часа через полтора, когда вода покрылась толстой коркой льда, достигающей 4–5 см толщины и образующей сплошную оболочку как сверху, так и с боков и со дна ведра, он ножом проделал сверху во льду небольшое круглое отверстие и вылил через него оставшуюся воду. Затем он внес ведро в помещение и поставил на печку. Через несколько минут, когда ведро согрелось, ледяная банка легко от него отделилась. Потом он бросил внутрь нее приманку — кусочки мяса или рыбы и поставил в стороне от барака, утопив в снег до верхнего края. Следы горностая у самого отверстия ледянки я видел на другой же день, но он поймался не сразу. Я не помню, как это было, потому что прошло уже почти 33 года, но это было, потому что по поручению Бандуры я сдал на факторию при проезде через Нижний Сеймчан шкурку этого зверька. Помню даже, что получил за нее охотничьи боеприпасы на 9 рублей.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

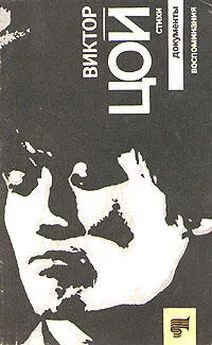


![Виктор Володин - Чернобыль. Обитель зла [litres]](/books/1067940/viktor-volodin-chernobyl-obitel-zla-litres.webp)