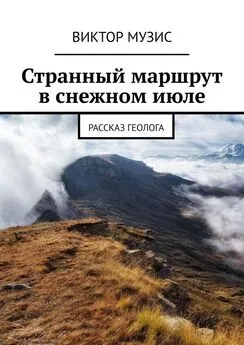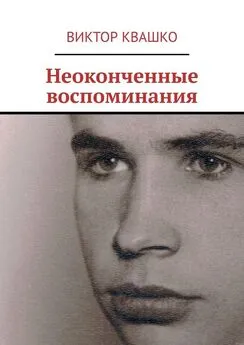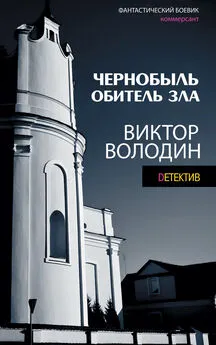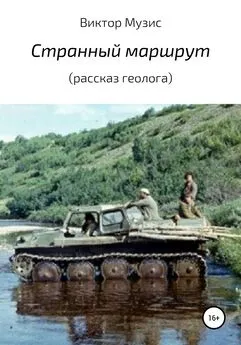Виктор Володин - Неоконченный маршрут. Воспоминания о Колыме 30-40-х годов
- Название:Неоконченный маршрут. Воспоминания о Колыме 30-40-х годов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Охотник
- Год:2014
- Город:Магадан
- ISBN:978-5-906641-08-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Володин - Неоконченный маршрут. Воспоминания о Колыме 30-40-х годов краткое содержание
Эта книга — не просто мемуары геолога, это воспоминания, написанные языком, которому может позавидовать профессиональный литератор. Жизнь на Колыме предстает перед читателем в многообразии геологического жития, в непростых человеческих взаимоотношениях, в деталях быта, в постоянном напряжении от существования в состоянии необъявленной войны с заключенными, в ежедневном преодолении… Десятки геологов: Борис Флеров, Валентин Цареградский, Алексей Васьковский, Сергей Смирнов, Евгений Машко, Израиль Драбкин, Николай Аникеев, Владимир Титов… горняки, прорабы, руководители и рабочие предстают перед нами в этой книге. И образы эти реальны, наделены человеческими чертами, ясны характеры этих людей, мотивы их поступков…
Неоконченный маршрут. Воспоминания о Колыме 30-40-х годов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Дорога на прииск «Дусканья» тогда еще не строилась, потому что она еще не была дотянута и до рудника, куда ее стремились построить раньше. По долинам Бутугычага, Нелькобы и Теньки не была еще выбрана трасса дороги, не было еще сделано просеки.
До начала полевых работ в середине или в 20-х числах мая Петр Емельянович Станкевич, старый и опытный таежник, возглавлявший на руднике «Бутугычаг» участок россыпных разведок и хорошо знавший окрестную тайгу, предложил мне проехаться с ним в низовья ручья Террасового, на речку Бутугычаг и ручьи Таборный и Подумай, то есть в район, где мне предстояло вскоре начать полевые работы. Я был рад такому случаю, потому что был новичком в тайге и на полевых работах и считал, что полезно будет выслушать и воспользоваться советом опытного полевого работника. Он действительно много советов давал мне в этой поездке, и я ими потом воспользовался. Теперь, правда, я их не помню, много с тех пор прошло времени — больше чем половина жизни.
Все же я немного помню о том, что часть из них касалась «линии поведения» в тайге, в частности «взаимоотношений» с медведями. Совет состоял в том, чтобы я не забывал, что в руках или за плечами у меня не винтовка, не штуцер, не берданка, винчестер или карабин, а только совсем ненадежное оружие — гладкоствольная ижевская бескурковка, которая, ко всему прочему, имеет слабые курки, делает осечки и может сильно подвести, когда раненный мною медведь полезет на меня и будет меня терзать. Короче говоря, он советовал не вступать в конфликты с медведями, которые могут встретиться. Я действительно довольно долго следовал этому совету, правда, тогда не встречал медведей, а потом, спустя шесть лет, убил тоже из гладкоствольного ружья одного, потом через месяц с небольшим второго и еще через 9 лет третьего медведя. Стрелять в них из нарезного оружия мне так и не пришлось.
Мы с ним поехали почему-то именно на тех двух лошадях, которые потом попали в мою партию. Петр Емельянович ехал на небольшом сером якутском коньке, а я — на более рослой ярко-пегой кобыле, завезенной сюда с юга морем. На ней было приблизительно поровну светло-серых и ярко выделяющихся на их фоне темно-рыжих или коричневых участков.
Именно в этой поездке я убил, стреляя с седла, куропатку. Я прицепил ее к поясу и прошел мимо конька Станкевича, конь успел понюхать куропатку, и на него почему-то странно подействовал запах крови; конек стал бояться выстрелов и потом за все лето не мог к ним опять привыкнуть, несмотря на то что раньше, до этого случая, он совершенно их не боялся, позволяя Станкевичу стрелять с седла. Теперь же он стал бояться не только выстрелов, а даже от одного вида ружья терял спокойствие.
На правом берегу Террасового мы застали отряд строителей, сооружавших поселок для строителей дороги. Они уже заканчивали постройкутакого поселка здесь и сворачивали свою работу до следующей зимы или до весны. Начальник строителей угощал Станкевича и меня чаем. Разговор между нами вертелся вокруг вопроса, как пойдет трасса дороги на этом участке Террасового, будет ли она обходить прижим, переходя через русло на левый берег, а потом снова возвращаться на правый или дорожники разработают прижим, сделав проезд по правому берегу? ( В 2000-е гг. узкий участок трассы в месте прижима к скале был значительно расширен. — Ред.) И еще — как дорога пойдет по долине Бутугычага? Ее удобнее и легче проложить по левому берегу, но это опять-таки требует постройки двух мостов. (Дорога именно так и прошла. Мосты были построены, ныне можно, не без труда, найти части их конструкций по бортам реки. — Ред.)
В конце дня мы с Петром Емельяновичем, побывав в долине ручья Таборного, где мы выбрали место для первой стоянки партии, заехали, наконец, на разведочный участок в среднем течении ручья Подумай, где тогда вели шурфовку долины. Там мы переночевали, а утром отправились восвояси, то есть в рудничный поселок.
Особый колорит придавали тайге часто встречавшиеся где-нибудь на открытых редколесых террасах или на полянах, на участках с хорошим ягелем под ногами орочские стоянки, многократно служившие своим постояльцам. На этих полянах стояли на своих местах узенькие шалашики, особым образом искусно сложенные из 15–20 сухих жердей длиной около 3 метров каждая. На каждой стоянке было до 6–8 таких шалашиков. Наши рабочие называли эти стоянки якутскими деревнями, не обращая внимания на то что я старался им объяснить, что это тунгусские, а совсем не якутские стоянки.
Каждый из таких шалашиков служил опорой, на которой держалась средняя часть большого круглого шатра, чума или яранги диаметром 5–6 м. Обогревались люди, сидевшие в таких шатрах из оленьей замши, маленькими костерками из сухих дров, пыдавшими в центре шатра.
О том, что все виденные мною в районе многолетние стоянки подобного типа были зимними, говорило то, что они располагались всегда вдали от русел рек или ручьев и их протоков. Было ясно, что люди не пользовались водой из реки или ручья, а добывали ее, растапливая снег. Летние стоянки были в долине Нелькобы у большой наледи, где олени могли пастись, спасаясь от гнуса и паутов. Тогда я как-то не представлял себе, что нетронутая многовековая тайга доживает здесь свой век, что дни ее уже сочтены, и что совсем скоро она превратится в свою противоположность, в мертвую, почти безжизненную пустыню с толстыми пеньками, напоминающими о существовавшем здесь лесе, с мертвым, уничтоженным неоднократными пожарами подлеском, кустарником и мхом. Огромна была разница между первозданной девственной тайгой на Теньке, какой она была еще в середине 1939 года, когда я там работал, и лишенной жизни пустыней, в которую она очень скоро превратилась.
Говоря о тайге, я многократно употреблял слово «многовековая». Это вовсе не преувеличение, как может показаться сначала. Лиственница в этом северном крае растет очень медленно из-за краткости вегетативного периода. Дерево толщиной 30–35 см насчитывает не меньше 200–250 годовых колец. Два толстых пня сантиметров по 80 в диаметре украшали собой до недавнего времени берег озерца возле поселка Усть-Омчуг на другом берегу реки Детрин. Я подсчитывал годовые кольца на одном из них. Их было больше 700.
Среди птиц тенькинской тайги преобладали кедровки. Эта небольшая птица меньше галки, но с большой головой, имеет серую окраску. Замечательна тем, что очень любопытна, и тем, что спешит оповестить весь животный мир тайги о том, что ей что-то удалось увидеть и узнать. Идешь, бывало, на сопку, когда припекает солнце. Жарко, тяжело дышать под спущенным накомарником, но жужжащие возле ушей кровососы не позволяют поднять накомарник. Вдруг раздается громкое карканье, и прямо над твоей головой на высоте 1–1,5 метра усаживается громко кричащая кедровка. Ей отвечает другая, торопящаяся прилететь, чтобы покаркать на тебя с близкого расстояния. Такой же громкий концерт они затевают, завидев медведя, ходящего по тайге. Однажды их слетелось десятка три, когда мы устанавливали палатки после переезда. Рассевшись на деревьях над головами и вокруг, они начали свою спевку и вскоре вывели нас из себя. Пришлось открыть огонь и, не сходя с места, за 5 минут настрелять 15 штук. Зажарили их на противне и съели. Запомнились их огромные головы и тощие, сухие мускулы.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

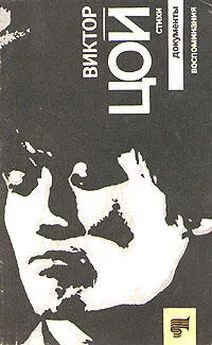


![Виктор Володин - Чернобыль. Обитель зла [litres]](/books/1067940/viktor-volodin-chernobyl-obitel-zla-litres.webp)