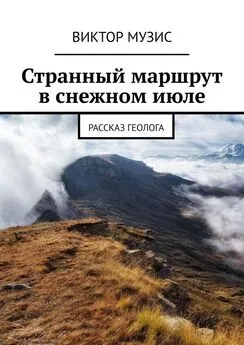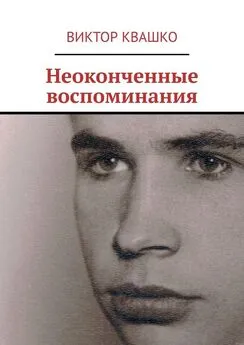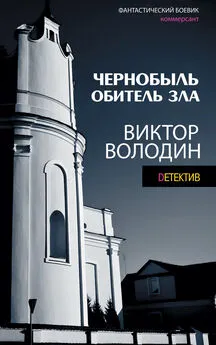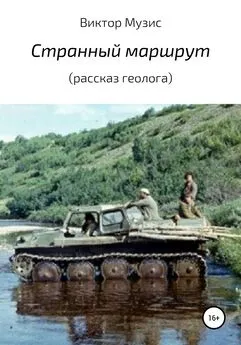Виктор Володин - Неоконченный маршрут. Воспоминания о Колыме 30-40-х годов
- Название:Неоконченный маршрут. Воспоминания о Колыме 30-40-х годов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Охотник
- Год:2014
- Город:Магадан
- ISBN:978-5-906641-08-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Володин - Неоконченный маршрут. Воспоминания о Колыме 30-40-х годов краткое содержание
Эта книга — не просто мемуары геолога, это воспоминания, написанные языком, которому может позавидовать профессиональный литератор. Жизнь на Колыме предстает перед читателем в многообразии геологического жития, в непростых человеческих взаимоотношениях, в деталях быта, в постоянном напряжении от существования в состоянии необъявленной войны с заключенными, в ежедневном преодолении… Десятки геологов: Борис Флеров, Валентин Цареградский, Алексей Васьковский, Сергей Смирнов, Евгений Машко, Израиль Драбкин, Николай Аникеев, Владимир Титов… горняки, прорабы, руководители и рабочие предстают перед нами в этой книге. И образы эти реальны, наделены человеческими чертами, ясны характеры этих людей, мотивы их поступков…
Неоконченный маршрут. Воспоминания о Колыме 30-40-х годов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Поразительную перемену я увидел на Нелькобе, через которую я меньше чем два месяца назад переправлялся в подвесной вагонетке по тросу, а, возвращаясь обратно, переезжал на лодке. Теперь здесь кипела работа, трудилось много людей, почти готов был мост, совсем не временный, а постоянный, вполне добротный, по которому теперь мы свободно перешли на другой берег, а на топком болоте, через которое я тогда с трудом перебирался, теперь были настелены толстые бревна и по ним частично отсыпано полотно дороги. Казалось, что лежавшая раньше за болотами, затруднявшими доступ к ней, база Тенькинского разведрайона приблизилась и стала легкодоступной. Аникеева и Драбкина я застал у начальника разведрайона Дмитрия Павловича Асеева, где был и старший геолог района Илья Исаевич Крупенский. Утром мы отправились дальше. С моими спутниками был возчик и три или четыре лошади. Я продолжал удивляться по дороге тому, что на всем протяжении нашего пути до устья ручья Игуменовского, куда мы с Драбкиным повернули на одноименный прииск, то есть на участке длиной больше 14 километров, кипела работа по строительству дороги. Здесь во многих местах настилались бревна, а в других — уже полностью настланы. Производилась выемка кюветов и отсыпка полотна дороги. Все делалось вручную, механизмов не было никаких. Только кайла, лопаты, тачки.
На прииске «Игуменовский», где у Драбкина были какие-то дела, мы переночевали у старшего геолога, а утром через перевал добрались до базы С. И. Кожанова в устье ручья Танкист на ручье Чернецком ( ручей Чернецкий проходит параллельно ручью Игуменовскому в 5 км западнее. — Ред.).
Дня через два мы с С. И. Кожановым и М. И. Дорохиным отправились с этой стоянки в сторону Сарапуловской базы. Я шел маршрутом по правому водоразделу, и мне запомнилось, что тайга уже зазолотилась, а особенно ярко желтела, освещенная солнцем, одиночная березка среди еще зеленых лиственниц возле устья этой речки.
В окрестностях Сарапуловской базы мы проводили маршруты дня четыре, а потом перешли ниже. Трудными оказались маршруты по гранитному массиву Улахан, особенно последний из них, который я проделывал после снегопада. Маршрут был, помнится, двухдневный, причем первый день был серый, и я не чувствовал никакой боли в глазах. Второй же день достался мне дорого. Солнце светило ярко, и ярок был свежий чистейший снег. Снеговых очков у меня не было, и мне нельзя было в таких условиях продолжать маршрут. Но я по-прежнему был неопытен.
Сначала я не чувствовал боли в глазах, но к вечеру и особенно на следующее утро мне казалось, что у меня под веками песок. Глаза сильно болели, и мне пришлось три дня лежать в палатке, завязав глаза непроницаемой черной повязкой. Это было уже в последние дни работы, когда мы стояли возле агробазы близ устья Теньки. К нам заезжали тогда Аникеев и Драбкин, возвращавшиеся из поездки на Хениканджу.
Помню, что даже сквозь черную повязку, закрытые веки и очки глаза сильно раздражало пламя свечи, когда оно попадало в поле зрения.
В эти дни на устье Теньки я встретил Е. Н. Костылева, партия которого тоже уже кончила работу и сплавилась сюда на кунгасе. С самим Е. Н. Костылевым незадолго до этого случилось несчастье. Во время снегопада, после которого я повредил глаза, его кунгас и палатки стояли на берегу Колымы возле гранитных сопок массива Оттахтах. Костылев босой сидел в палатке. Увидев, что недалеко от берега сели утки, он, схватив ружье и всунув ноги в резиновые чуни, выскочил из палатки. Поскользнувшись на покрытом снегом гранитном валуне, он упал. Падая, он протянул правую руку к гранитному валуну, на который падал, но при этом не выпустил из нее заряженного ружья. Вся сила удара пришлась на последнюю фалангу безымянного пальца, которая оказалась между валуном и стволами ружья, на которое он навалился всем своим телом, фаланга пальца была при этом раздроблена.
Пострадавшего быстро доставили на лодке на прииск Дусканья, где врач ампутировал раздробленный сустав пальца. Но палец долго не заживал, и Евгению Николаевичу пришлось ездить в Магадан, где ему отняли еще часть второй фаланги.
Аникеевский «прииск»
В первые недели войны по инициативе Н. П. Аникеева систематически проводились субботники, вернее воскресники, на которых работники геолого-разведочной службы трудились, разрабатывая россыпь реки Омчуг. Даровую рабочую силу использовали крайне нерационально и расточительно. Работы производились на участке, где шурф показал промышленное содержание золота в пласте, лежащем под мощным слоем незолотоносного речника, или так называемых торфов. Такую глубоко залегающую россыпь можно разрабатывать только подземным способом, так как вскрывать ее невыгодно. Но не могли же мы пройти шахту. Вот и вкалывали, вскрывая мощные торфа. Мне пришлось потрудиться там только один день. Я тогда добросовестно катал тачки с породой, но сердце, по-видимому, и тогда у меня было неважное, или, может быть, в связи с отсутствием сноровки и тренировки я свалился тогда и лежал, пока не пришел в нормальное состояние, после чего был вынужден умерить свой пыл. В тот день, когда я работал, Борис Багдасарович Евангулов, или Боба Е., промыл на лотке самородочек весом до 3 граммов. Всего же было добыто порядка 20 граммов золота.
Но, может быть, я и ошибаюсь.
Ввиду мизерности результатов мы прекратили вскоре свое старательство.
«Региональщик»
После возвращения с партией С. И. Кожанова я некоторое время работал старшим инженером геолого-поискового отдела. Занимались в новом, только что построенном деревянном одноэтажном здании, к которому пристраивались каменные крылья, складываемые из остроугольных обломков сланца. В одном из этих крыльев предполагалось поместить геофонд.
В отделе начальника партий приступили к камеральной обработке материалов. Составляли проекты геолого-поисковых и геолого-разведочных партий на следующий, 1942 год.
Кроме А. Л. Лисовского, продолжавшего возглавлять отдел, в нем распоряжался и командовал Михаил Георгиевич Котов, недавно прибывший сюда из Московского представительства Дальстроя и занимавший теперь должность помощника главного геолога ТГПУ.
До своей службы в Московском представительстве Дальстроя М. Г. Котов несколько лет работал на Колыме на полевых работах на Теньке и Кулу.
Теперь М. Г. Котов в связи с сокращением штатов в Московском представительстве поехал вместе с К. Д. Соколовым, В. Т. Матвеенко и И. Р. Якушевым. Все они, кроме В. Т. Матвеенко, который попал теперь в геолого-поисковый отдел геолого-разведочного управления Дальстроя, прибыли к нам.
М. Г. Котов вскоре стал начальником геолого-поискового отдела, а А. Л. Лисовский из нашего управления удалился.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

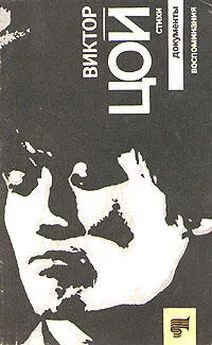


![Виктор Володин - Чернобыль. Обитель зла [litres]](/books/1067940/viktor-volodin-chernobyl-obitel-zla-litres.webp)