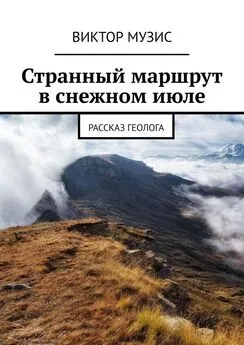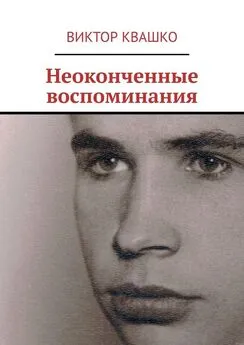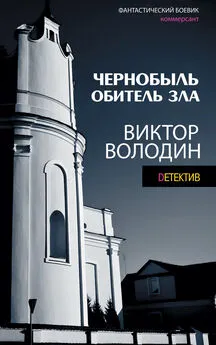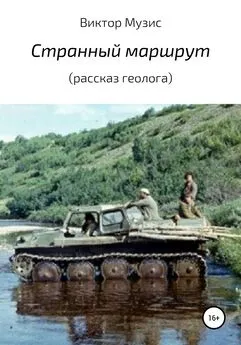Виктор Володин - Неоконченный маршрут. Воспоминания о Колыме 30-40-х годов
- Название:Неоконченный маршрут. Воспоминания о Колыме 30-40-х годов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Охотник
- Год:2014
- Город:Магадан
- ISBN:978-5-906641-08-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Володин - Неоконченный маршрут. Воспоминания о Колыме 30-40-х годов краткое содержание
Эта книга — не просто мемуары геолога, это воспоминания, написанные языком, которому может позавидовать профессиональный литератор. Жизнь на Колыме предстает перед читателем в многообразии геологического жития, в непростых человеческих взаимоотношениях, в деталях быта, в постоянном напряжении от существования в состоянии необъявленной войны с заключенными, в ежедневном преодолении… Десятки геологов: Борис Флеров, Валентин Цареградский, Алексей Васьковский, Сергей Смирнов, Евгений Машко, Израиль Драбкин, Николай Аникеев, Владимир Титов… горняки, прорабы, руководители и рабочие предстают перед нами в этой книге. И образы эти реальны, наделены человеческими чертами, ясны характеры этих людей, мотивы их поступков…
Неоконченный маршрут. Воспоминания о Колыме 30-40-х годов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Река была глубокая, широкая и быстрая, и переправа через нее сама по себе представляла довольно трудную задачу, и казалось нелепой фантазией искать на ней какие-то подручные средства. Но, как это ни странно, как будто кто-то подстроил это, подбросив нам такие средства. На берегу Детрина мы сразу же наткнулись на лодку без весел и неподалеку от нее на бесхозную лопату зазевавшегося огородника. На этих двух средствах переправились через реку.
Позднее я задумывался над вопросом, откуда могла взяться лодка, чтобы появиться именно там, где она была нужна нам, и почему наш командир Кочин направлялся прямо к тому месту на берегу, где стояла лодка, как будто он знал, что она там есть. И каждый раз я приходил к выводу, что именно так дело и было, что он знал, что лодка там есть, и что он сам заблаговременно с кем-то договорился, чтобы в нужное время и в нужном месте оказались и лодка, и лопата.
Было нас человек 6–7, и командовал нами почему-то командир роты Кочин. На другом берегу реки мы долго брели через заболоченную поверхность террасы, обходя глубокие русла стариц. Это нас сильно задержало, и, когда мы подошли к подножью, были уже сумерки. Наш командир сказал, что мы должны подняться на эти пригорочки. Он хотел пошутить, подражая А. В. Суворову, чтобы казаться этаким бодрячком. Но получилось не очень удачно.
Все мы понимали, так как незадолго перед тем видели фильм «Суворов» и знали, о каких «пригорочках» в Альпах шла в нем речь, видели и ту высокую остроконечную вершину, через которую лежал наш путь на широкую массивную гранитную вершину Геркулеса, на которую мы поднимались, и потому нам не стало веселее. Всем было ясно, что встряли мы в продолжительный походик.
Пригорочки были на самом деле порядочные, и на восхождение к вершине потребовались часы. Сначала по крутому отрогу мы взобрались на остроконечную вершину, сложенную роговиками, потом в неглубокой седловине пересекли контакт грано-диоритов с роговиками и дальше поднимались по массивному широкому отрогу, шагая по крупным глыбам гранодиорита.
Подъем был высок, и вершины сопки мы достигли после полуночи в начале второго часа ночи. Света этой сумеречно-белой ночи, было достаточно, чтобы я смог нарисовать схематичную карту нашего похода, долины Детрина, русла реки и т. д. Я быстро выполнил это поручение командира, и мы пошли назад, теперь уже беря направление к новому, недавно построенному мосту. Помню, что мы останавливались для того, чтобы закурить у костра лесорубов, потому что когда вышли в поход, выяснилось, что ни у одного из нас не было спичек, и все мы хотели поскорее добраться до костра.
Домой пришли измученные и усталые в 4 часа утра, когда уже сияло солнце на небосводе. А ведь опаздывать на работу было нельзя, так как за это судили.
Мне после этого похода трудным показался только первый день, так как ночь я прогулял в походе и не выспался. Потом все пришло в норму. А наш командир, затеявший этот походик на «пригорочки», дня три после него бюллетенил. Нас он больше не водил в походы. Для него он оказался труднее, чем для меня.
В рядах истребительного батальона однажды мне довелось участвовать в тушении лесного пожара за Детрином выше по течению, чем Усть-Омчуг. Когда мы прибыли на место пожара, огнем был охвачен большой участок долины Детрина, где лес был срублен и сложен в штабеля. К пылающим штабелям невозможно было приблизиться из-за нестерпимого сильного жара. Мы пытались расталкивать их баграми, но почти все они так и сгорели дотла.
Пожарные со своими насосами и цистернами с водой прибыли почему-то намного позже нас, когда штабеля дров уже очень сильно погорели, но все же они успели притушить огонь, залив водой некоторые из них, а мы растащили баграми то, что осталось.
До приезда пожарных мы старались локализовать зону пожара, рыли канавы, создавая вокруг зоны пожара полосу, лишенную растительности. Трудились мы энергично, и нам удалось локализовать очаг пожара.
В Магадан и в Ларюковую
Вторую половину первой военной зимы я опять работал в отделе подсчета запасов. В феврале мне пришлось поехать в командировку. Я не сразу вспомнил, почему в этот раз поехали туда и Буриков, и я. А это было связано с отсутствием в нашем управлении машинистки, которая смогла бы отпечатать пояснительные записки к подсчету. Это была почему-то очень дефицитная специальность, а зарплата машинистке полагалась мизерная. Поэтому мне и пришлось ехать в Магадан с рукописными записками, чтобы там их отпечатать, а Буриков поехал прямо на Ларюковую, куда в первые месяцы войны эвакуировали Геолого-разведочное управление Дальстроя (ГРУ ДС).
В Магадане в Главном управлении Дальстроя, или в Главном управлении строительства Дальнего Севера (ГУСДС НКВД СССР), или в Главке оставался только начальник геолого-разведочного управления, являвшийся также главным геологом Главка, В. А. Цареградский, которого годом позже сделали инженер-полковником и еще позже, к концу войны, произвели в генерал-майоры инженерных войск. Но тогда он еще не был ни генералом, ни полковником, а оставался штатским геологом.
Ехал я вместе с братом, который тоже вез в Магадан подсчет запасов по руднику «Бутугычаг». Автобус был собственностью рудника «Бутугычаг», и на нем, кроме брата, ехала еще группа рудничных работников. Мне он очень удачно подвернулся, вернее, это брат позаботился о том, чтобы автобус зашел в Усть-Омчуг и захватил меня. Ехали весело, потому что у рудничных работников были с собой бидончик спирта и какая-то закуска. Правда, спирт нечем было разводить, но их это не смущало, кажется, его заедали свежим снежком. Пили, конечно, понемногу, под предлогом, что нужно погреться, так как в автобусе было не особенно тепло, хотя в нем, кажется, была железная печка.
В этот раз я попал в Магадан впервые после приезда, со времени которого прошло больше чем 3 года и 3 месяца. Поэтому в Магадане я застал довольно значительные перемены. Кое-что из замеченного тогда я помню и теперь, почти 30 лет спустя. Прежде всего, вместо «украшавшего» в 1938 году центр города и расположенного на большом пустыре, к юго-востоку от перекрестка двух главных улиц — Колымского шоссе (будущего проспекта Ленина) и Пролетарской улицы — большого, обнесенного высокой изгородью из колючей проволоки со сторожевыми вышками на углах лагеря теперь стояло высокое, построенное буквой «П» четырехэтажное здание ГУ СДС НКВД СССР, или Главка (ныне здание объединения «Северовостокзолото». — Ред.). Здесь и помещался теперь кабинет главного геолога Дальстроя нашего будущего генерал-майора В. А. Цареградского, у которого в 1938 году мы были в приземистом деревянном бараке на Пролетарской улице.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

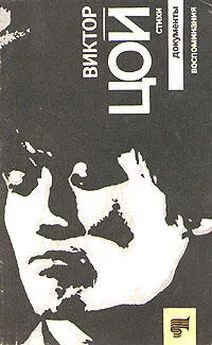


![Виктор Володин - Чернобыль. Обитель зла [litres]](/books/1067940/viktor-volodin-chernobyl-obitel-zla-litres.webp)