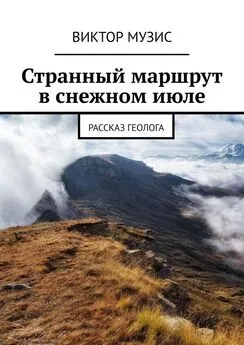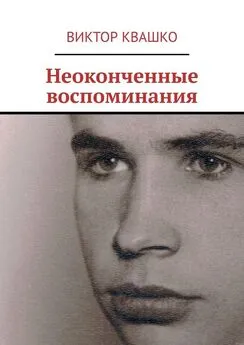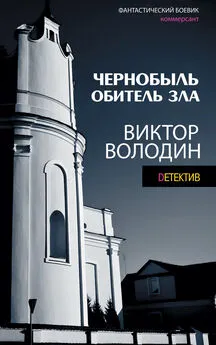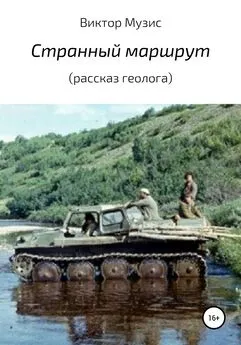Виктор Володин - Неоконченный маршрут. Воспоминания о Колыме 30-40-х годов
- Название:Неоконченный маршрут. Воспоминания о Колыме 30-40-х годов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Охотник
- Год:2014
- Город:Магадан
- ISBN:978-5-906641-08-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Володин - Неоконченный маршрут. Воспоминания о Колыме 30-40-х годов краткое содержание
Эта книга — не просто мемуары геолога, это воспоминания, написанные языком, которому может позавидовать профессиональный литератор. Жизнь на Колыме предстает перед читателем в многообразии геологического жития, в непростых человеческих взаимоотношениях, в деталях быта, в постоянном напряжении от существования в состоянии необъявленной войны с заключенными, в ежедневном преодолении… Десятки геологов: Борис Флеров, Валентин Цареградский, Алексей Васьковский, Сергей Смирнов, Евгений Машко, Израиль Драбкин, Николай Аникеев, Владимир Титов… горняки, прорабы, руководители и рабочие предстают перед нами в этой книге. И образы эти реальны, наделены человеческими чертами, ясны характеры этих людей, мотивы их поступков…
Неоконченный маршрут. Воспоминания о Колыме 30-40-х годов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Помню один такой поход в начале февраля до моей поездки в Магадан и Ларюковую, в котором участвовал и Степан Семенович Герасименко, который почему-то не любил свое имя и называл себя Сергеем (как говорят лагерники, «хлябал за Сергея»). Тогда, читая его пояснительную записку, я заметил сначала, что мне нравится ее стиль, потом мне стало казаться, что я уже читал ее, и, наконец, я вспомнил, что сам написал ее в позапрошлом году, а Сергей Семенович только переписал. Зачем же сочинять новое о старом?
После поездки на Ларюковую с заездом в Магадан я ездил еще на Бутугычаг, где произвел вновь подсчет запасов олова в делювиальных и коллювиальных россыпях, использовав все материалы первичной документации. По вечерам я перечитывал в квартире у брата «Войну и мир» и сам удивлялся тому, что очень быстро успел «проглотить» эту эпопею. Это было роскошное юбилейное издание к столетию Отечественной войны с иллюстрациями, выпущенное известным издательством Сытина в 1912 году.
Тогда уже не было той большой палатки на руднике, которая стояла в самой верхней части террасы у левого гранитного склона долины, где когда-то работали геологи. Теперь в нижней части той же террасы стояло довольно большое двухэтажное здание, первый этаж которого был сложен из гранитных глыб, а второй был деревянный. Первый этаж был занят рудничной конторой, второй был жилой. Не знаю, как допустила такое сочетание пожарная охрана, но оно существовало.
А сочетание служебных помещений с жилыми, особенно в условиях поселка, где каждую каплю воды «добывали», расплавляя снег и в лучшем случае лед, было, конечно, очень опасно и недопустимо. Тем не менее это здание существовало на рудничном поселке еще долго и почему-то до закрытия рудника не сгорело.
В этом здании я и занимался подсчетом запасов.
Незадолго до моей командировки на рудник там сгорел двухэтажный жилой дом. Пожар произошел ночью 8 марта, и на память о нем остался анекдот, как геолог Яков Зиновьевич Хайн, проснувшись в горящем доме, торопливо одевшись, хотел спасти что-нибудь ценное из своего обреченного имущества, но вместо этого схватил со стола пепельницу с окурками и, сунув ее в карман телогрейки, выбежал на улицу. Самое смешное в этой истории то, что Хайн не курил, а окурки и пепельница были чужие — его товарищей по общежитию.
Оперетка
Немногим геологам выпадает в их жизни такое счастье, какое выпало в 1936 году Борису Леонидовичу Флерову, когда он во главе руководимой им геолого-разведочной партии открыл уникальное, единственное и неповторимое Бутугычагское месторождение оловянного камня, или касситерита. Спешу оговориться, что превосходными эпитетами я наградил это месторождение не из-за его величины или запасов. Оно, к сожалению, не было огромным или очень крупным, и запасы его тоже не были неисчерпаемыми. Они относятся к исключительно, подчеркнуто выраженной структуре рудного поля и закономерностям пространственного размещения рудных жил и промышленных зон, к его компактности, сосредоточенности параллельных между собой почти прямых, богатых оловянным камнем жил на относительно ограниченной площади и тоже исключительной сосредоточенности в вертикальном направлении. Внизу богатые оловом и мощные жилы вдруг иссякают и исчезают, достигнув при движении сверху вниз определенной наклонной и неплоской поверхности. Казалось, что они обрезаны, но на самом деле никаких признаков разрывной тектоники здесь нет.
Все на этом месторождении было как на учебном плакате или макете, как будто оно нарочно создано или сделано для обучения студентов.
В особенной, удесятеренной степени мои эпитеты относятся к несравненной красоте рудных жил. Мощные оловянно-каменные жилы состояли из крупнокристаллического касситерита, такого же кальцита, или исландского шпата, адуляра, горного хрусталя, свинцового блеска или галенита, вольфрамита, флюорита или плавикового шпата. Особенно неповторимым, несравненным и очень красивым уникальным и чрезвычайно редким, единственным если не в мире, то в Советском Союзе, был оловянный камень, или касситерит. Огромные, до 20–25 мм в поперечнике квадратные, дипирамидальные кристаллы длиной тоже до 20 мм, темно-коричневые или черно-коричневые, слабо просвечивающие в тонких участках у трещинок, имели прекрасно развитые грани с характерной рельефной штриховкой и образовывали сплошные друзы, или щетки вместе с кристаллами кварца, кальцита и адуляра на стенках зияющих полостей трещин.
Должно быть, очарованный неповторимой красотой оловянно-каменных жил, Б. Л. Флеров дал им несколько поэтические названия. Наиболее крупные, мощные и наиболее красивые он назвал Кармен, Микаэла, Хозе, Аида. Остальным присвоил порядковые номера. В тон ему прораб его партии Иванов при опробовании гидросети речку с красивой, зеленой лесистой долиной назвал Вакханкой, а мрачные, угрюмые лишенные растительности ручьи, прорезающие гранитный массив, он назвал соответствующими именами Шайтан, Вельзевул.
Открытие Бутугычагского месторождения было крупным событием середины тридцатых годов, которое стало известным и в Москве, и в Ленинграде, в Академии наук и в других геологических организациях. Им интересовался, в частности, академик С. С. Смирнов, известный своими работами по олову.
Разумеется, что оно не миновало внимания и магаданского начальства. При этом майор Павлов возмутился: «Это что за оперетка? Кармен! Микаэла! Хозе! Аида! Вакханка! Ишь, распоясались! Подумать только, какое вольнодумство! Главное, кто позволил? С кем согласовано?! А еще: Колымский ишак, Бим, Бом, Турист, Мечты, Лесные братья, Первач, опять Кармен и другие неприличные слова! Никуда не годится! Это не пойдет! Приказываю переименовать! Жилы именовать порядковыми номерами, речку Вакханка — популярным звучным словом Ант, ручей Колымский ишак будет Поисковиком».
Так распорядился майор. Кармен стала номером пятнадцатым, Аида — двадцатым, или Восточной жилой.
Но напрасно пускало пену гнева начальство. Названия, продиктованные приказом, совсем не привились. Как бы вопреки приказу, наперекор ему названия, данные Флеровым и Ивановым, «пустили корни», привились и остались жить по-прежнему. Оставаясь популярными на всем протяжении жизни рудника, то есть почти два десятка лет. И Вакханку все называют так и до сих пор, а об Анте забыли сразу же после приказа. И еще, как бы в насмешку над майором, самого Анта ( имеется в виду авиаконструктор А. Н. Туполев, «Ант» — название серии его самолетов. — Ред .) посадили в годы великих репрессалий, и название, данное приказом майора, отпало само по себе.
Начальник Юго-Западного управления Ткачев рассказывал кому-то при мне, кажется, на прииске Лазо в первые дни моего пребывания там, пожимая плечами и всем своим видом выражая неудовольствие, удивление и неодобрение поведения Флерова, который защищал названия жил, говоря кому-то: «Понимаете — это настоящая Кармен! Представляете себе черную полосу на белом фоне? Как вы не понимаете, что это Кармен?».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

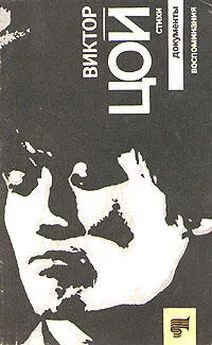


![Виктор Володин - Чернобыль. Обитель зла [litres]](/books/1067940/viktor-volodin-chernobyl-obitel-zla-litres.webp)