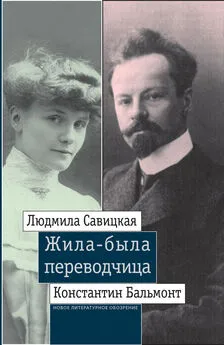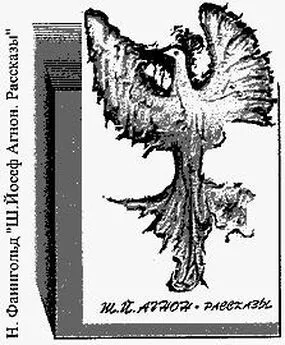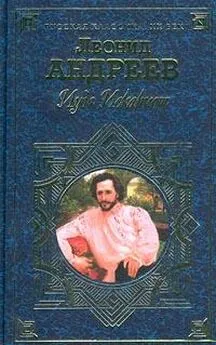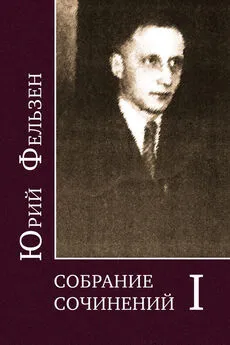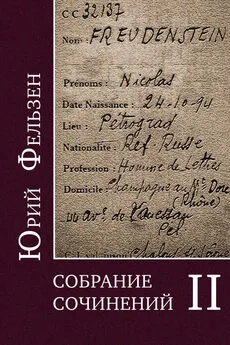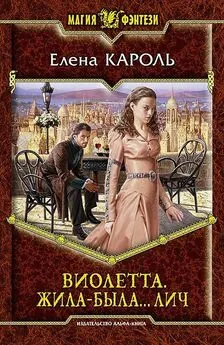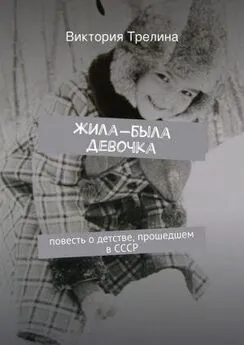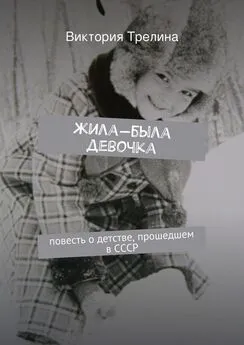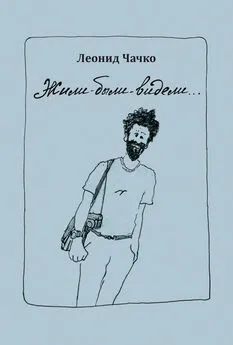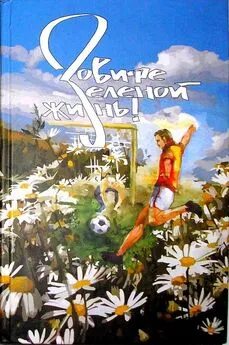Леонид Ливак - Жила-была переводчица
- Название:Жила-была переводчица
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент НЛО
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-1328-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Леонид Ливак - Жила-была переводчица краткое содержание
Жила-была переводчица - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Людмила тяжело переживала «полевение» французских коллег, с которыми ее связывали многолетние личные и профессиональные отношения, тем более что их политическая эволюция неизменно вела к одиозному отождествлению «русского» с «советским». В середине 1930‐х гг., на гребне волны энтузиазма французских интеллектуалов по отношению к сталинизму, захлестнувшей среди прочих и ее деверя Жан-Ришара Блока, Людмила записывает в дневнике, как больно ей видеть «достойных людей на службе у извращения благородной идеи», имея в виду «узко понятую, политически урезанную идею коммунизма, которая во Франции превращается в поклонение СССР, чьи имитативность и нетерпимость напоминают святошество религиозных изуверов». В тех же размышлениях мы находим и одну из причин выхода Савицкой из транснациональной модернистской культуры:
Что же мне делать? Если я молчу, мое присутствие гнетет и выражает неодобрение. Если я говорю – мои слова другим кажутся не к месту и несвоевременными. Я все больше чувствую, что мне следует удалиться. И это, вероятно, произойдет даже не по сознательно принятому решению, а само собой, как устраивается все, ставшее необходимым. Я пишу, чтобы объяснить , почему это рано или поздно случится. Мне нужно поместить себя в нечто подобное мыльному пузырю, себя и весь свой багаж, оставив достаточно места и для других [200] Запись от 18 марта 1934 (пер. с фр.); Savitzky L . Journal. Cahier IV: 1933–40. P. 3–4. Цит. по машинописи дневников, хранящихся в частном собрании наследников Л. Савицкой.
.
Как знак выхода Людмилы из модернистской культуры сотрудничество с Зайцевым интересно еще и тем, что оно материализовалось по инициативе группы младших писателей-изгнанников, стремившихся наладить постоянное общение с французской культурной средой. В созданной ими для этого Франко-русской студии (1929–1931) эмигрантские писатели, критики и философы, в основном ветераны русского модернизма или представители его послевоенного поколения, встречались с французскими коллегами для регулярных дискуссий на литературные и общекультурные темы [201] Подробнее о Франко-русской студии см.: Le Studio franco-russe, 1929–1931 / Réd. Leonid Livak, Gervaise Tassis. Toronto: Toronto Slavic Library, 2005.
. При Студии существовала переводная издательская программа без определенной эстетической направленности, ставившая целью компенсировать враждебность «левых» кругов к русским эмигрантам, которые могли, таким образом, печататься в серии «Les maîtres étrangers» издательства «Saint-Michel». Это позволило Зайцеву просить Людмилу о переводе романа «Анна» (1929), что она и сделала [202], встречаясь с автором и редакционным комитетом программы на заседаниях Франко-русской студии [203] Зайцев – Савицкой (26.IV.1930; 10.IX.1930; 27.II.1931; 19.V.1931); SVZ11. Zaitzev, Boris. Fonds Ludmila Savitzky. IMEC. Письмо Зайцева от 15.IX.1930 сохранилось в черновой рукописи перевода «Анны»: SVZ30. Traduction de Boris Zaitzev par Ludmila Savitzky. Fonds Ludmila Savitzky. IMEC.
. Получив возможность сблизиться с представителями русской модернистской культуры в Париже – многие участники Студии входили в круг журнала «Числа», – Людмила все же ограничилась сотрудничеством с Зайцевым, которое стало последним переводческим проектом в ее литературной деятельности до Второй мировой войны. Даже тот факт, что ее старая подруга Ирма Владимировна де Манциарли была меценатом и сотрудницей «Чисел», не повлиял на отход Людмилы от транснациональной модернистской культуры, претившей ей теперь и в этическом отношении.
Если идеологическая «левизна», а также дух дада и сюрреализма не нашли такого яркого выражения среди сотрудников «Чисел», как в послевоенной когорте французского модернизма, и те и другие продолжали хорошо знакомую Людмиле практику эстетически значимого поведения, чьи последствия в виде искалеченных жизней она испытала на себе и с возрастом стала воспринимать как малооправданные. Одновременно с Савицкой к подобному заключению пришел и Владислав Ходасевич, чью статью о жизнетворчестве как «истории разбитых жизней» она могла читать в одном из апрельских номеров парижского «Возрождения» за 1928 г., тем более что Ходасевич цитировал здесь дарственное послание Бальмонта из «Будем как солнце» как пример «утечки» творческой энергии в повседневное поведение людей модернистской культуры [204] Ходасевич В . Конец Ренаты. С. 7–8.
. И если поводом для размышлений поэта послужило самоубийство в Париже в феврале того же года сверстницы Людмилы – Нины Петровской, ставшей знаковой фигурой русского модернизма путем участия в его жизнетворческих экспериментах, для Савицкой толчком к критической переоценке эстетически значимого поведения стала очередная личная драма, а именно трагическая судьба близкого ей человека, писательницы Мирей Авэ, бывшей в течение двадцати лет связующим звеном между Людмилой и Ирмой де Манциарли, которых Мирей считала «самыми умными» из знакомых ей женщин [205] Запись в дневнике (17.VIII.1919); Havet M. Journal, 1918–1919 / Réd. D. Tiry, P. Plateau. Paris: Édition Claire Paulhan, 2003. P. 175.
. Последние годы жизни Мирей, чья развязка вписалась в целую серию подобных трагедий, замешенных на наркотиках и культе саморазрушения как средствах преодоления «буржуазной» морали и быта среди авангардистов послевоенного призыва – от Реймона Радиге и Жака Ваше до Бориса Поплавского [206], – стали окончательным толчком к отчуждению Людмилы Савицкой от транснациональной модернистской культуры.
Людмила познакомилась с Мирей, младшей дочерью художника Анри Авэ, в чей салон были вхожи поэты Поль Фор, Гийом Аполлинер и Жан Кокто, во время отдыха в упоминавшемся выше фаланстере «Невильская обитель», летом 1908 г. Десятилетняя девочка поразила Людмилу творческой одаренностью, а ее недетская жажда познать мир напомнила Людмиле собственную юность. Став наставницей Мирей в Париже, поскольку богемная семья мало занималась дочерью, Людмила взялась за ее образование и подготовила к поступлению в лицей. Но Мирей бросила учебу, чтобы посвятить себя литературе: круг Аполлинера усмотрел в ее полудетских стихах и прозе второе пришествие Артюра Рембо и принялся издавать ее писания уже в 1913 г. К шестнадцати годам Мирей – литературный вундеркинд и достопримечательность салонов – успела побывать в любовницах у Фора и Аполлинера, а также прослыть невестой Алексиса Леже, писавшего стихи под псевдонимом Сен-Жон Перс. Однако сближение с Кокто открыло ей эстетическую ценность более радикального бунта против «буржуазной» морали с ее пуританской сексуальностью. К концу десятилетия Мирей отдала предпочтение лесбийским связям, которые служили к тому же, благодаря состоятельным любовницам, важным материальным источником для пристрастившейся к наркотикам в окружении Кокто и нуждавшейся в деньгах писательницы [207] Savitzky L. Souvenirs. Cahier III. P. 14–15.
. В 1920‐х гг. Мирей продолжала писать поэзию и прозу, но прославилась как неординарная личность, поскольку текст жизни, над которым она усердно работала, взяв моделью модернистский миф о Рембо [208] Запись без даты (VIII.1919); Havet M. Journal, 1918–1919. P. 175.
, превратил ее в знакового монпарнасского персонажа. Этим объясняется и то, что дневник, который она беспрерывно вела с 1913 г., оказался впоследствии ее главным литературным достижением.
Интервал:
Закладка: