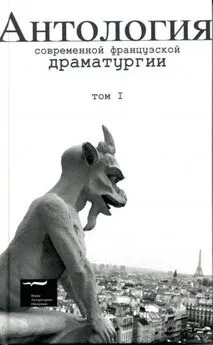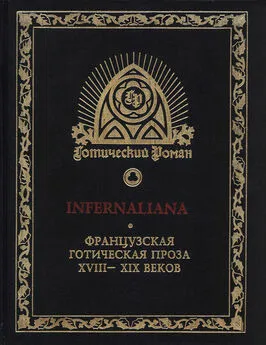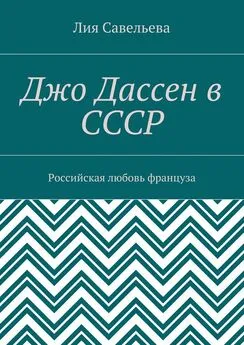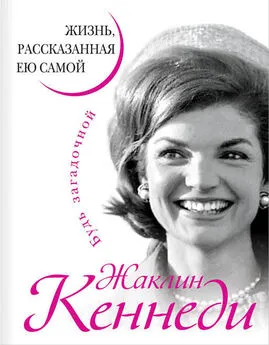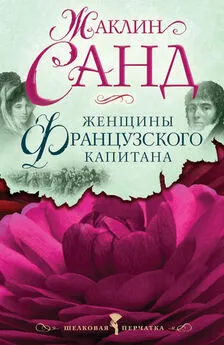Жак Росси - Жак-француз. В память о ГУЛАГе
- Название:Жак-француз. В память о ГУЛАГе
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент НЛО
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-1065-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Жак Росси - Жак-француз. В память о ГУЛАГе краткое содержание
Жак-француз. В память о ГУЛАГе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
«При царизме охранка использовала доносчиков и провокаторов, но общественное мнение это осуждало. Ленинская тайная полиция организовала сеть осведомителей, внедренных повсюду. Помню, как в “Правде” от 20 декабря 1937 года было написано черным по белому, что “сотрудничество с органами госбезопасности – благороднейший и священный долг советских людей”. По закону тридцать четвертого года семью военнослужащего, сбежавшего за границу, осуждают за недонесение на срок от пяти до десяти лет.
В лагере стукачей вербовал опер. Он присматривался к каждому заключенному и копил всевозможную информацию о нем, чтобы пустить в ход шантаж. Некоторые арестанты сами предлагали себя в стукачи, иной раз за лишнюю пайку хлеба или табака, а то так из мести. Завербованный стукач писал соответствующее обязательство и подписывал его условленным псевдонимом; опер хранил эти обязательства у себя в сейфе и сообщал стукачу, каким образом передавать письменные доносы, например вручать их доверенному лицу иди бросать в почтовый ящик. За свой труд доносчик получал крайне скудное вознаграждение: его могли, к примеру, назначить на работу, где он мог украсть немного еды. Одним из самых желанных видов вознаграждения было признание стукача “вставшим на путь исправления”. Когда о деятельности стукача узнавали другие заключенные и он становился бесполезен, его переводили в ту зону лагеря, где находились жертвы его доносов. Если это были уголовники, ему отрубали голову и выкидывали ее на помойку».
Стукачами, как правило, становились не от усердия и не из преданности: их вербовали, используя слабости каждого, путем обмана или шантажа. После первого предательства пути назад уже не было, вполне в духе советской идеологии, где государственные интересы ставились всегда выше личных.
Всё это прекрасно объясняет, почему Жак не откликнулся на предложение Павлова. Прежде всего, в отличие от большинства зэков, Жак-француз воспитывался не в Советском Союзе. Ему уже невозможно было привить вирус доносительства: у него были четкие моральные установки, а слепая вера в коммунистическую утопию, не подкрепленная местными аберрациями, только укрепляла эти его принципы. Жак был наблюдателен, он видел, что доносчик многим рискует и чаще всего кончает очень плохо. Бывало, конечно, что доносы вырывали под пыткой или путем шантажа, но Жак не подвергся ни тому, ни другому. К этому добавлялись благоразумие, самоуважение, словом, те самые качества, благодаря которым Жаку удалось всё выдержать и выжить.
Но он дорого заплатил за свое упорство. На все пять лет, что Павлов оставался на своем посту, Жаку пришлось отказаться от малейшей надежды на легкую работу. Только после того как его преследователь уехал, он получил возможность время от времени опять брать в руки карандаш; как-то ему даже довелось поработать в ателье мод – недаром же он был французом, – где обшивали вольнонаемных инженеров, химиков и других специалистов. «В сорок третьем году ателье мод, где я работал, удостоилось особой чести: его посетил вице-адмирал. Директриса ателье, супруга важной шишки, так и вилась вокруг почетного гостя. И вдруг я его узнал. Это был Роберт Павлович, мой московский знакомый из догулаговских времен, которого я встречал у одного друга, профессионального революционера. В те времена оба вели пылкие разговоры и с удовольствием вспоминали свои парижские впечатления двадцатых и тридцатых годов. Я никогда не пытался узнать, в какой именно службе они работали, с меня было довольно, что мы все трое трудимся во имя мировой революции.
Тем временем директриса обхаживала адмирала:
– Какой бы вам хотелось галстук? Наш художник (художником был я) нарисует вам любой фасон по вашему выбору!
И обернувшись ко мне, распорядилась:
– Жак Робертович, сделайте нам вот такой фасон!
Тут взгляд вице-адмирала остановился на мне. Наши глаза встретились. Оба сделали вид, будто никогда друг друга не видели. Я был только рад, что добрый знакомый не угодил в Великую чистку».
Пригодился Жаку и его театральный опыт, восходивший к временам, когда он, восторженный молодой коммунист, занимался образованием рабочих и ставил с ними сценки и пьесы. «У “вольняшек” был свой театр – там всё делали заключенные, по каторжной традиции, идущей еще с царских времен и описанной у Достоевского. Впрочем, богатые помещики до освобождения крестьян тоже держали театры, где играли крепостные актеры. Как видим, марксизм-ленинизм не полностью искоренил старинные обычаи… Лагерные театры бывали двух типов. В нашем лагерном секторе актеров не освобождали от общих работ, они должны были играть в свободное время. Зато их официально признавали актерами, и они участвовали в спектаклях для всего лагеря, хотя это случалось нечасто: ведь политзаключенным полагалось перевоспитание на самых тяжелых работах. И всё же начальник лагеря, отвечавший не только за дисциплину, но и за выполнение производственного плана, понимал, что театр поднимает настроение охране и содействует эффективности труда строителей завода.
Теоретически театр обоих типов предназначался для одной и той же публики. “Культура”, как его называли в лагере, был пропагандистский театр, призывавший заключенных надрываться из последних сил во имя светлого будущего. Почему в Советском Союзе почти все умели читать? Чтобы сподручнее было скармливать им пропаганду. Среди исполнителей попадались прекрасные артисты из Большого театра, из Кировского, осужденные кто на десять лет, кто на пятнадцать, они радовались случаю выйти на сцену даже в таких условиях, даже для того чтобы играть перед нашими мучителями, лишь бы не долбить мерзлую землю. То же самое и с певцами – в лагере их было много, не зря я услышал пение еще на барже, которая несла меня по Енисею в лагерь. Для этого театра мне иногда предлагали намалевать декорации, если удавалось раздобыть материал и краски. После отъезда Павлова я стал работать декоратором и в театре для “вольняшек”.
Иногда актеры-заключенные сочиняли юмористические сценки, в которых высмеивали вольнонаемную публику, – это происходило уже после Второй мировой войны. Советская экономика была по-прежнему в разрухе. И вот наш зэк-драматург придумал такую сценку, в которой герой, вольнонаемный инженер, такой же, как наши зрители, лупит свою курицу за то, что она вместо яиц несет только яичный порошок. Избиение происходило за кулисами, потому что, разумеется, курицы самой не было, а был один из наших актеров, квохтавший за сценой. Инженер в ярости выскакивал из-за кулис и жаловался, что курица продолжает нестись порошком, хотя война кончилась три года назад и по официальным данным экономика уже восстановлена. А иногда актеры играли сцену из какой-нибудь классической пьесы – ставить всю ее целиком у нас не было возможностей».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: