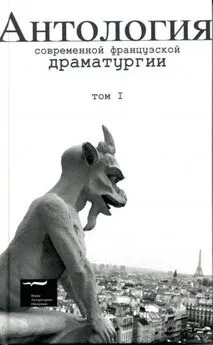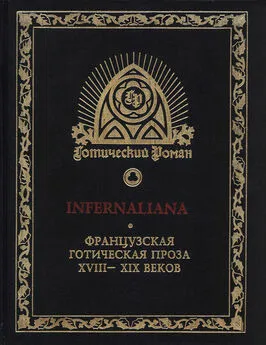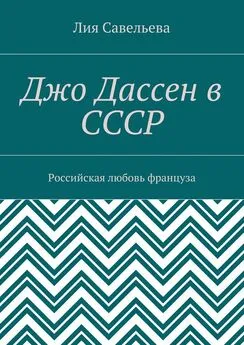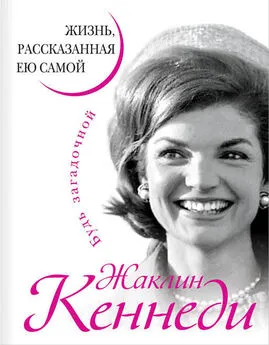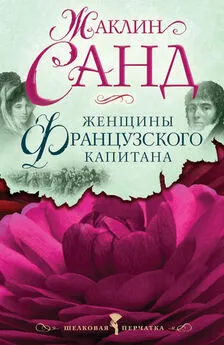Жак Росси - Жак-француз. В память о ГУЛАГе
- Название:Жак-француз. В память о ГУЛАГе
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент НЛО
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-1065-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Жак Росси - Жак-француз. В память о ГУЛАГе краткое содержание
Жак-француз. В память о ГУЛАГе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Регину терзали воспоминания об аресте и депортации отца: перепуганным семьям приказали выстроиться на перроне, в руках у людей запас сухарей – потом всё это конфисковали – и они издали видели шеренгу арестованных, окруженных охранниками с собаками. Отец жестами указывает на арестантов, умирающих от голода. И тогда по подсказке матери маленькая Регина бросается с буханкой хлеба к вагону, к солдату, который хватает у нее хлеб, накалывает на штык и передает отцу. Последнее, что девочка запомнила об отце, не вернувшемся из ГУЛАГа, – то, как он делит драгоценный хлеб с товарищами по несчастью.
Жак вернулся из логова зверя живой, невредимый, ничем не запятнанный, он был счастлив утолить любознательность юной польки и обуревающую ее жажду деятельности. До конца жизни они останутся вместе. Регине посвящены все книги Жака. Когда в марте 2001-го он окажется на грани смерти (в тот раз она его миновала), он пожелает увидеть в последний раз именно Регину и в конце своего долгого земного странствия сочетается с ней узами брака.
Но тогда, на исходе 1961 года, они расстались: Регина уехала учиться в Англию. Они вновь повстречались в Париже в 1964 году, случайно наткнулись друг на друга перед собором Парижской Богоматери, потом виделись в Гренобле и Вене, это была первая поездка Жака на Запад. Оба считали, что отношения между ними давние, прочные и тесные. Регина поначалу не слишком верила, что тема ГУЛАГа заинтересует издателей, но настаивала на том, что главным делом ее жизни стало распространение написанного Жаком и что именно ради этого она осталась в Соединенных Штатах, когда в 1985 году Жак решил окончательно перебраться во Францию. Она активно участвовала в трех главных событиях, призванных познакомить со «Справочником» читателей, – 11 декабря 1987 года в Джорджтаунском университете она будет представлять Жака по случаю выхода «Справочника по ГУЛАГу» в Лондоне и прочтет вступление к книге, затем в 1989 году на книжной ярмарке во Франкфурте, куда пригласят Жака по случаю выхода книги в переводе на английский в издательстве «Парагон», и на конференции в Варшаве в 1992 году, где будет энергично пропагандировать этот труд.
«Сначала я познакомился с мадам Марией, у которой были две дочери, одну из них звали Регина, она изучала английскую литературу в Варшавском университете. Регина никогда не была коммунисткой. Она крепко держалась за католические ценности, это с самой ранней юности придавало ей твердости и отваги. Меня впечатлил ее ум и стойкость духа, и я сблизился с ней и с кругом ее друзей, таких же глубоко порядочных, как она сама».
И вот Жак делает первый шаг, который приведет к созданию его замечательной книги. «Сперва гулаговские выражения мелькали у меня в голове, но как всегда вначале, я еще был в растерянности. А потом в один прекрасный день я купил себе первую пару новых ботинок. Коробку из-под них я сохранил. Я заметил, что размеры коробки позволяют вставить в нее половинку бумажного листа. Таким образом я начал собирать карточки. Когда карточка была исписана, я складывал ее вдвое и клал в коробку. На карточки я заносил всё, что в голову приходило. Скажем, какой-то вид деятельности, известный мне буквально из первых рук, – как это происходило? Какие приказы отдавались? Каким способом можно было что-нибудь скрыть? В тюрьмах строгого режима и предварительного заключения нельзя было иметь нитки. Если нам выдавали нитку, чтобы зашить одежду, мы обязаны были сдать оставшийся кусок вместе с иглой. А если хотели этот обрывок нитки сохранить, надо было его как следует спрятать. Я видел, как очень важный в прошлом человек, бывший генерал, перед обыском обматывал нитку вокруг причинного места. Иногда во время обыска требовали: “Откройте член!”, и я не сразу понимал, что от меня требуется. Тогда надзиратель, сдвинув два пальца и сделав ими движение вперед, показывал, что надо оттянуть крайнюю плоть. По мере того как все эти подробности всплывали в памяти, я их записывал. Хотя некоторые приемы припрятывания я не желал описывать, чтобы не выдавать секретов. (Например, я никогда не расскажу, каким чудом долгие месяцы хранил жестяной ножик размером один сантиметр на три четверти, который сам изготовил из консервной банки и наточил.) Всё прочее вошло в моем справочнике в статью “обыск (шмон)”. Записывал я по мере того как вспоминал, не заботясь о порядке.
Потом пришла очередь статьи “пайка”. Сперва в голову лезли самые расхожие выражения: “священная пайка”, “святой костыль”, “кровным потом заработанная пайка”, “не маленькая пайка губит, а большая”, “бей дневального, пайка найдется”. Днем и ночью я открывал шкаф, доставал коробку и добавлял то слово, то два предложения, то абзац.
Позже я дополнил записи чтением, изучением воспоминаний и свидетельств. Например, для этой статьи пригодилась “Тюремная пайка” Шаламова. А в библиотеке Варшавского университета я обнаружил книгу о царском уставе содержания под стражей. В Советском Союзе этот том был совершенно недоступен, потому что если бы какой-нибудь наглец взялся сравнивать те условия с гулаговскими, он тут же заметил бы, что при царе жилось несравнимо лучше. А в статье “пайка”, там, где упоминается арестантский паек царского времени, сказано: “Арестант царских времен получал единую норму хлеба – 2 фунта (812 г) в сутки, что соответствует почти двум основным суточным нормам советского зэка. Арестанты, занятые тяжелым физическим трудом, получали еще дополнительный фунт или всего 1228,5 грамма, в советских же лагерях самая большая пайка –1200 граммов” [41].
Груда моих карточек росла, и я забеспокоился. Если бы польская милиция наложила на них лапу, меня бы, возможно, не отправили в тюрьму, но рукопись бы наверняка конфисковали. У меня были добрые друзья во французском посольстве. В Польше, в отличие от Советского Союза, можно было общаться с “капиталистами”. Один из них рискнул отправить мои карточки во Францию дипломатической почтой. Карточки были, разумеется, написаны по-русски, ведь основным их материалом был словарь ГУЛАГа, бытующие там выражения, арготизмы. Но мысленно я уже прикидывал, как буду переводить все это на французский – ведь сам я француз. Мой язык – французский. Хотя, конечно, некоторые понятия трудно передать на другом языке: комиссар-следователь – это все-таки не то же самое, что juge d’instruction (судебный следователь), как писали иногда в переводах на французский. Комиссар-следователь (или просто следователь) – это был мент, легавый, он не имел отношения к правосудию, он выслеживал будущего обвиняемого, а потом допрашивал его известными методами и готовил обвинительное заключение. Он не имел ничего общего с судебным следователем. Вспомним историю о слепом и кофе с молоком. Это было всё равно как описывать жизнь на Лазурном берегу для эскимосов: как, к примеру, передать слово “мимоза”? Эскимосы знакомы с некоторыми мхами и лишайниками, но не с мимозой же! Позже с передачей разных терминов мне очень помог мой французский друг юрист Альбер Жоаннон».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: