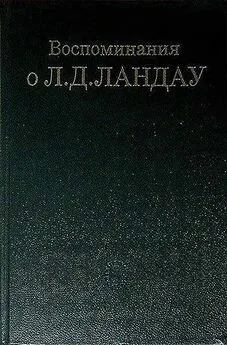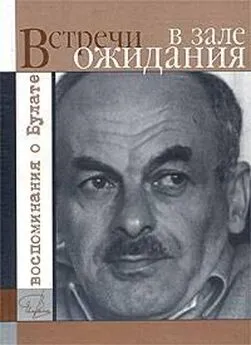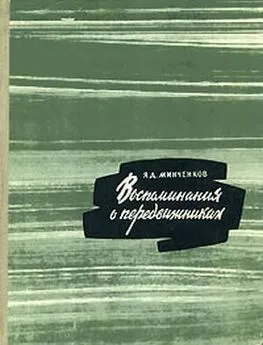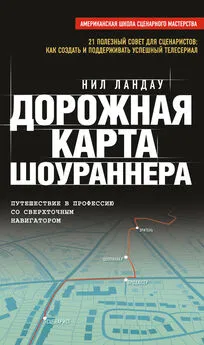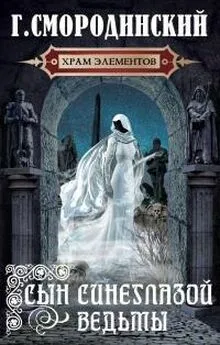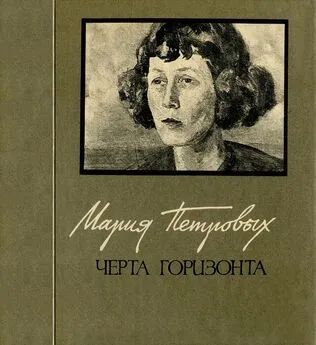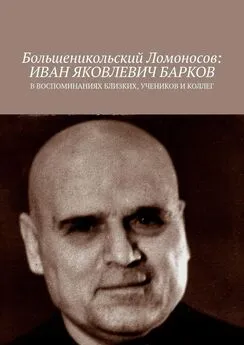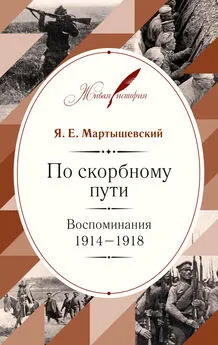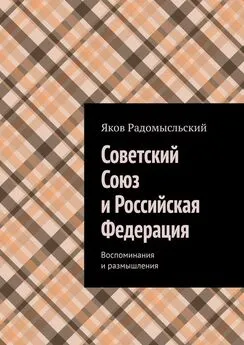Яков Смородинский - Воспоминания о Л. Д. Ландау
- Название:Воспоминания о Л. Д. Ландау
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Наука
- Год:1988
- Город:Москва
- ISBN:5-02-000091-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Яков Смородинский - Воспоминания о Л. Д. Ландау краткое содержание
Издание рассчитано на физиков, историков науки и широкий круг читателей.
Воспоминания о Л. Д. Ландау - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
О семинаре и его научных достоинствах я, конечно, знал до того, как впервые на нем побывал. И все же семинар поразил. Поразил прежде всего своей атмосферой. Четко ощущалось: люди, собравшиеся в зале, живут теоретической физикой. Я написал последнюю фразу и понял, что недостаточно точно выражаю свою мысль. Привычка к штампам автоматически может подсказать образы ученых-аскетов либо, наоборот, развязных молодых людей с бородами и без, которые бродят по экранам в фильмах о физиках. Не то и не другое. В семинаре принимали участие разные люди — и по возрасту, и по положению, и по квалификации, и по внешнему виду, но всех объединяло одно: происходящее на семинаре интересовало их более всего в жизни. Страсть, с которой выступали, огорчения, которые испытывали, когда их прогоняли от доски (такое случалось нередко — докладывать было трудно), не омрачались никакими побочными соображениями. На семинаре господствовала наука — наука как таковая. Я не помню ни одного случая, чтобы на семинаре проявились личные отношения между его участниками, чтобы споры, которые вспыхивали часто и редко пресекались, были связаны с симпатией или антипатией к выступающему, а не к задаче или методу ее решения.
На семинаре царила полная демократичность. Лев Давидович сидел спиной к залу, в первом ряду, и, хотя большинство докладчиков обращались непосредственно к нему, он не был Председателем, Куратором (с большой буквы) — никакой торжественности, важности. Каждый участник мог в любую минуту прервать докладчика, требуя разъяснения или высказывая свое неодобрение. Этой возможностью пользовался и Ландау. Бытует много рассказов о жесткости Ландау в оценке работ, рассказов о том, как тот или иной выступающий был прогнан. Действительно, если выяснялась несостоятельность работы или автор (либо докладчик, реферирующий чужую работу) не мог объяснить существа дела, он безжалостно лишался слова. Раздавалось сакраментальное: «Алеша, что у нас дальше?» Но следует помнить, что истинной причиной жесткости было абсолютно бескомпромиссное отношение Ландау к науке. Правильность или неправильность результата не зависит от того, получен он близким другом или совершенно посторонним. Ландау нередко защищал докладчика от нападок слушателей. До сих пор многие повторяют часто слышанную от него фразу: «Автор обычно бывает прав», — за которой следовало: «Послушаем дальше…» Только обнаружение ошибки, некомпетентность выступающего либо неумение разъяснить прерывали доклад.
…Докладывает маститый ученый, весьма уважаемый, и уважаемый заслуженно. Последние его работы, правда, вызывают настороженную реакцию, так как ученый дискутирует с Эйнштейном. Семинар проходит напряженно. Обычная процедура — ответы на вопросы по ходу доклада — не устраивает докладчика. Лев Давидович просит не мешать докладывающему и внимательно слушает. В конце первого часа (перед перерывом) Ландау встает и говорит, глядя на доску: «Вы ошиблись…» И точно указывает место, где допущена ошибка (весьма тонкая, заметим). Все, кто знает, как трудно со слуха разобраться в сути теорфизической работы, поймут, какое проникновение в чужую работу (подчеркнем — очень далекую от интересов Ландау в то время) было продемонстрировано.
Другой семинар. Другой докладчик, разбирающий чужую статью, кажется из «Physikal Review». Недоразумение: слушатели (и докладчик тоже) не понимают метода вывода автора. Начинается шум. Лев Давидович встает, подходит к доске и выводит формулу. Вычисления проделываются аккуратно, в чуть замедленном темпе. Кто-то не выдерживает: «Дау, только без коэффициентов, достаточно оценки…» Быстрый, мгновенно соображающий, Ландау был педантичным, когда дело касалось вычислений, расчета. Сам великолепно «угадывающий» результат в сложнейших задачах, он требовал строжайшей доказуемости от всех. Конечно, и от себя. «Угадка», т. е. интуитивные соображения, хороша только как наметка, как необходимый этап при формулировке строгой постановки задачи.
Острота, яркость впечатлений от семинаров Ландау не сглаживались с годами. Каждый приезд в Москву (я жил тогда в Харькове) приноравливался к семинару, и каждое заседание, на котором удалось присутствовать, воспринималось как своеобразный праздник. Сходство с праздником усиливалось толкотней в коридорах (до и после семинара, в перерыве), взволнованными лицами, особым гулом — свидетельством общего возбуждения.
Сейчас, когда образ Ландау приходится восстанавливать по памяти, наверное, разные люди нарисуют разные портреты. Это естественно. Ландау был слишком сложным человеком, чтобы каждый, даже близко его знавший (или думающий, что знал его близко), разобрался в нем полностью. Одни и те же факты, высказывания, оценки будут пониматься и тем более трактоваться по-разному. Это отступление от рассказа о семинаре нужно мне, чтобы вернуться к демократичности Ландау, наиболее ярко проявлявшейся именно на семинаре.
Демократичность — понятие не простое. Уровень демократичности определяется и стилем отношений внутри уже существующего коллектива, и легкостью присоединения к коллективу. Демократичность в окружении Ландау была очень откровенная; мне не хочется употреблять слово «нарочитая», так как простота отношений была естественна, никому не демонстрировалась. Многие говорили друг другу «ты», многие говорили «ты» Ландау, никого не удивляли споры (иногда в резкой форме) между учеными совершенно разного возраста и положения.
Я убежден, что многих именно эта демократичность, простота отношений в школе Ландау отпугивала. Окружавшие Дау казались компанией близких друзей (многие действительно дружили) . А в такую компанию трудно войти взрослому человеку. Поэтому школа Ландау (в те годы, когда я знал его) росла за счет молодежи: появлялись новые ученики Ландау и ученики его учеников. Молодые люди, как правило, легче преодолевали барьер психологической несовместимости.
Некоторая изолированность (наверное, более точное слово — обособленность) школы Ландау была связана еще с одним обстоятельством. Научная близость, сильное взаимодействие породили своеобразный язык научного общения. Язык, который хорошо понимали все физики-теоретики, близкие Ландау (стоит подчеркнуть очень высокий профессиональный уровень школы Ландау), и к которому надо было по меньшей мере привыкнуть. Свою работу необходимо было «уметь» рассказать. Некоторым это давалось легко, а другие, даже делавшие вполне хорошие работы, так и не сумели постичь премудрости языка Ландау. Для Ландау очень много значило первое впечатление о человеке. Неудача при знакомстве (сказал глупость, может быть от волнения, проявил некомпетентность в области, которой занимался, или что-нибудь в этом роде) часто навсегда лишала человека возможности тесного общения с Ландау. Иногда к таким неудачникам (непризнание Ландау ничем организационно не грозило) Ландау был явно несправедлив. Об одном физике-теоретике он несколько раз (поэтому, наверное, я и запомнил) говорил одно и то же: «Если дать ему продифференцировать In ах , он получит 1 /ах ». Пожалуй, тот, о ком говорил Ландау, дифференцировать умел…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: