Сергей Антонов - От первого лица... (Рассказы о писателях, книгах и словах) [журнальный вариант]
- Название:От первого лица... (Рассказы о писателях, книгах и словах) [журнальный вариант]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1973
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Антонов - От первого лица... (Рассказы о писателях, книгах и словах) [журнальный вариант] краткое содержание
От первого лица... (Рассказы о писателях, книгах и словах) [журнальный вариант] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В сценах, наполненных «крупноблочными» философскими или квазифилософскими диалогами, Антон Лаврентьевич не изъявляет желания ни появиться, ни обнаружить себя хотя бы заменой голых разговоров пересказом. Достоевский был уверен, что идеология бесов крайнего толка не нуждается в тенденциозном заострении. Он считал, что если им дать возможность высказаться публично, «они бы насмешили всю Россию». И в записной тетради, в том месте, где определяется особый тон повествования, сказано: «Тон в том, что Нечаева и князя не разъяснять. Нечаев начинает с сплетен и обыденностей, а князь раскрывается постепенно (рассказом) в действии и без всяких объяснений» (Нечаевым здесь обозначен Петр Верховенский, князем — Ставрогин).
Один из действенных способов критики состоит в том, чтобы позволить противнику выступить перед публикой в своем естественном, неприглядном виде.
Убедительность такого способа продемонстрировали К. Маркс и Ф. Энгельс в работе «Альянс социалистической демократии и международное товарищество рабочих». Воспроизведя полностью нечаевский «Катехизис революционера», К. Маркс и Ф. Энгельс заметили: «Критиковать такой шедевр значило бы затушевывать его шутовской характер. Это значило бы также принять слишком всерьез этого аморфного всеразрушителя, ухитрившегося сочетать в одном лице Родольфа, Монте-Кристо, Карла Моора и Робера Макера».
Примерно так же собирался поступить и Достоевский.
Но когда в «Альянсе...» цитируются такие, например, перлы: «Революционер — человек обреченный... Денно и нощно должна быть у него одна мысль, одна цель — беспощадное разрушение... Мы соединимся с лихим разбойничьим миром, этим истинным и единственным революционером в России»,— читатель понимает, что буквализм цитаты подчеркивает шутовство не выдуманной, а действительной политической программы.
В «Бесах» мнимоневозмутимый прием не срабатывает, и не срабатывает потому, что быстро становится ясно: автор передает сочиненные разговоры сочиненных им персонажей. К тому же сочиненные персонажи эти, лишенные осторожно-иронического буфера хроникера, превращаются в откровенно карикатурные схемы.
Одну из причин удачи романа М. Каутской «Стефан» Энгельс видел в том, что писательница сумела «относиться к своим героям с той тонкой иронией, которая свидетельствует о власти писателя над своим творением». А Ставрогин непонятен Достоевскому и не освоен им. Писатель видит его рассудочно, снаружи. Это становится особенно ясным, если сравнить Ставрогина со Степаном Трофимовичем. Степан Трофимович тоже выражает идею, которая Достоевскому весьма не по душе. Но в Степане Трофимовиче Достоевский увидел не только голую идею, но и человека, понял его и, поняв, полюбил. (Александр Блок, наверное, сказал бы: «...полюбил его сатирически».) Перед нами оригинальная, смешная и трогательная личность, рассказ о которой непрерывно аккомпанируется иронией, свидетельствующей о полной власти писателя над своим творением.
Достоевский понял Степана Трофимовича «насквозь»: «Сгоряча,— и признаюсь, от скуки быть конфидентом,— я, может быть, слишком обвинял его,— пишет хроникер про Степана Трофимовича.— По жестокости моей я добивался его собственного признания предо мною во всем, хотя, впрочем, и допускал, что признаваться в иных вещах, пожалуй, и затруднительно. Он тоже меня насквозь понимал, то есть ясно видел, что я понимаю его насквозь и даже злюсь на него, и сам злился на меня за то, что я злюсь на него и понимаю его насквозь».
Такая глубина понимания и рождает творческую иронию. Хроникер пытается убедить читателя, что и Ставрогин ему также ясен: «Николая Всеволодовича я изучал все последнее время и, по особым обстоятельствам, знаю о нем теперь, когда пишу это, очень много фактов». Но знание фактов для художника далеко не означает полного знания. И в конце концов хроникер признается: «...разумеется, я не знаю, что было внутри человека, я видел снаружи». При описании поступков Степана Трофимовича такие оговорки не нужны.
Степан Трофимович художественно прорабатывался субъективностью хроникера. А при появлении Ставрогина или Верховенского-сына хроникер терялся, и Достоевскому приходилось брать власть в свои руки. Это выражалось прежде всего в изменении стиля.
Короткий пример поясняет сказанное.
Поначалу в рассказе хроникера слово «наши» звучит почти безобидно: «Все наши еще с самого начала были официально предуведомлены о том, что Степан Трофимович некоторое время принимать не будет». Затем в устах Петра Верховенского это слово преображается, приобретает таинственный, темный смысл. «А о н а ш е м деле не заикнусь»,— говорит он Ставрогину. И дальше: «Кстати, надо бы к нашим сходить, то есть к ним, а не к н а ш и м, а то вы опять лыко в строку», «...вы словцо н а ш е не любите». Здесь все понятно: в устах Петра Верховенского слово «наши» выражает презрение к одураченным «любителям». «Вы заранее смеетесь, что увидите «наших»?» — веселился Петр Верховенский, когда он со Ставрогиным отправлялся на сборище.
В дальнейшем с легкой руки Верховенского то же словцо перенимает рассказчик. Подробно описывается, как перед убийством Шатова «собрались н а ш и в полном комплекте», как «наши предполагали, что он имел какие-то и откуда-то особые поручения», как «н а ш и были возбуждены».
Но здесь рассказ ведет уже не хроникер, не Антон Лаврентьевич, с характером которого мы освоились, к которому привыкли. Антон Лаврентьевич не умел наполнять самые обыкновенные слова язвительным, грубым сарказмом, превращать их в эмблему и злобный символ.
Это умел делать Достоевский.
15
Когда реакционеры и враги нашего строя видят в персонажах «Бесов» социалистов и революционеров, это понятно и просто объяснимо. Когда эмигрант-антисоветчик С. Франк, разыскивая причины «катастрофы», постигшей Россию (так он называет Великую Октябрьскую социалистическую революцию), обращается к «пророчески предугаданным «Бесам», тоже понятно.
Но я не могу понять, почему некоторые наши советские исследователи упорно старались заставить меня видеть в Ставрогине и Петре Верховенском злобное изображение социалистов, революционеров (не обращая внимания на то, что сам Петр Верховенский объявлял, что он не социалист, а мошенник), а роман в целом представляли как «злобный памфлет на революцию и социализм» (не смущаясь тем, что ни революции, ни социализма в романе автор не показывал и показывать не собирался)? Зачем вопреки истине меня пытались убедить, что роман «Бесы» — произведение художественно слабое (в то время как М. Горький объявил «Бесов» сильным и злым романом)? Повторялось все это часто и долго — вплоть до празднования стопятидесятилетней даты со дня рождения великого писателя в 1971 году.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Сергей Антонов - От первого лица... (Рассказы о писателях, книгах и словах) [журнальный вариант]](/books/1059481/sergej-antonov-ot-pervogo-lica-rasskazy-o-pisa.webp)

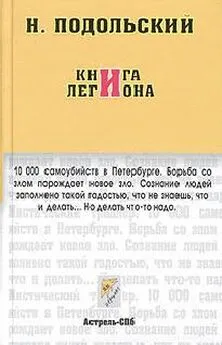


![Сергей Григорьев - Гибель Британии [журнальный вариант]](/books/529949/sergej-grigorev-gibel-britanii-zhurnalnyj-varia.webp)
![Сергей Михеенков - Солдатский маршал [Журнальный вариант]](/books/600421/sergej-miheenkov-soldatskij-marshal-zhurnalnyj-var.webp)


![Сергей Антонов - Два автомата [Рассказы]](/books/1090712/sergej-antonov-dva-avtomata-rasskazy.webp)
