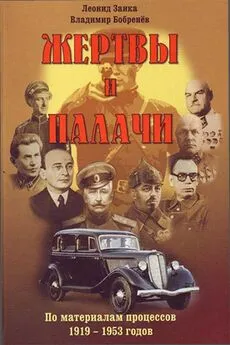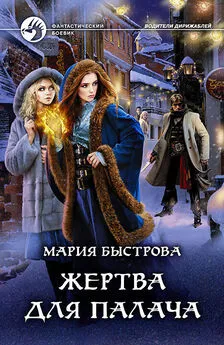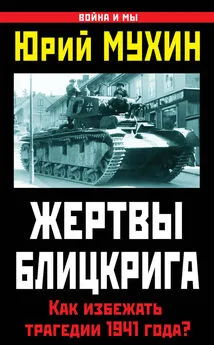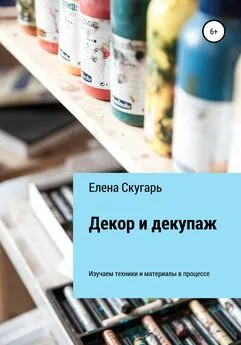Леонид Заика - Жертвы и палачи. По материалам процессов 1919–1953 годов
- Название:Жертвы и палачи. По материалам процессов 1919–1953 годов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Книжный мир
- Год:2011
- ISBN:978-5-8041-0568-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Леонид Заика - Жертвы и палачи. По материалам процессов 1919–1953 годов краткое содержание
Образный язык, глубокое знание предмета повествования (авторы имеют за плечами большой опыт прокурорской работы), привлечение обширного массива архивных документов, многие из которых длительное время оставались неизвестными российскому читателю, позволяют воочию представить страдания человека, попавшего под пресс классового, пролетарского правосудия. Нельзя освободиться от истории страны, в которой ты живешь. История требует осмысления. Наша книга для думающего читателя.
Жертвы и палачи. По материалам процессов 1919–1953 годов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Ответ подсудимого никто не услышал и председательствующий снова возвращает подсудимого к тому, от чего он уже отказался. Председателя Военной коллегии Верховного Суда совершенно не интересует «нехорошее» состояние, в котором находился допрашиваемый менее суток назад, кто и как довел его до этого состояния, хотя в соответствии с процессуальной процедурой причина изменения в суде показаний, данных на предварительном следствии, должна быть выяснена. Дальше допрос подсудимого в суде больше напоминает разговор слепого Павлова с глухим Ульрихом:
Ульрих: В своих показаниях от 21 июля 1941 года вы утверждали, что впервые о целях и задачах заговора узнали еще в 1937 году, будучи в Испании, от Мерецкова?
Павлов: Будучи в Испании, я имел одну беседу с Мерецковым, во время которой он говорил: вот наберемся опыта в этой войне и этот опыт перенесем на свои войска. Тогда же из парижских газет я узнал об антисоветском военном заговоре, существовавшем в РККА.
Ульрих: Несколько часов назад вы говорили совершенно другое, в частности о своей вражеской деятельности.
Павлов: Антисоветской деятельностью я никогда не занимался. Показания о своем участии в антисоветском военном заговоре дал, будучи в невменяемом состоянии.
Ульрих: На том же допросе вы говорили, что цели и задачи заговора, которые вам изложил Мерецков, сводились к тому, чтобы произвести в армии смену руководства, поставив во главе армии угодных заговорщикам людей — Уборевича и Тухачевского. Такой разговор у вас с ним был?
Павлов: Такого разговора у меня с ним не было.
Ульрих: На том же допросе вы говорили, что поддерживали все время с Мерецковым постоянную связь, последний в неоднократных беседах с вами систематически высказывал свои пораженческие настроения, доказывая неизбежность поражения Красной Армии в предстоящей войне с немцами. С момента начала военных действий Термании на западе Мерецков говорил, что сейчас немцам не до нас, но в случае нападения их на Советский Союз и победы германской армии нам от этого хуже не будет. Такой разговор с Мерецковым был?
Павлов: Да, такой разговор у меня с ним был, тот разговор происходил в январе 1940 года в Райволе. Я не возражал ему, так как разговор происходил во время выпивки. В этом я виноват.
Ульрих: Свои показания от 21 июля 1941 года вы заканчиваете так: «Будучи озлоблен тем обстоятельством, что многие ранее близкие мне командира Красной Армии были арестованы и осуждены, я избрал самый верный способ мести — организацию поражения Красной Армии в войне с Германией. Я частично успел сделать то, что в свое время не удалось Тухачевскому и Уборевичу, то есть открыть фронт немцам.»
Павлов: Никакого озлобления у меня никогда не было. И не было к тому оснований. Я был Героем Советского Союза. С прошлой верхушкой связан не был. На предварительном следствии меня в течение 15 дней допрашивали о заговоре. Я хотел скорее предстать перед судом и ему доложить о действительных причинах поражения армии. Поэтому я писал о злобе и называл себя тем, кем никогда не был.
Если следовать логике сотрудников особого отдела НКВД, изложенной в официальных документах предварительного следствия, Павлов занимался подготовкой поражения Красной Армии давно. В частности, на заседании Главного военного совета 21 ноября 1939 года голосовал за расформирование танковых корпусов по настоянию тогдашнего наркома обороны Ворошилова. На самом деле в 1940 году Павлов принял самое активное участие в их воссоздании.
В конце сентября 1940 года на стол командующему легла директива Наркомата обороны о результатах инспектирования войск Западного Особого военного округа. В ней отмечались схематизм, низкая требовательность, слабое внимание к организации обороны предполья (раньше об этом вообще молчали и проверяющие, и проверяемые), плохая маскировка оборонительных сооружений, неумелая увязка системы пехотного и артиллерийского огня с системой препятствий. Все это Павлов знал, как и то, что разведка в полках и дивизиях организована и ведется из рук вон плохо, что командиры часто действуют наугад, а взаимодействие организуется больше в тиши штабных кабинетов, чем на местности, что уязвимое место боевых порядков — плохая организация наблюдения за флангами, их охрана и оборона.
Зимний период обучения 1940–1941 годов показал слабую подготовленность командиров и штабов всех степеней. Неудовлетворительно были отработаны руководство тылом, контроль за выполнением отданных распоряжений. По стрелково-артиллерийской подготовке из шести проверенных артиллерийских частей лишь в двух офицеры еле-еле натянули на положительную оценку.
Не раз, не два — многократно в приказах, директивах, телефонных переговорах — Павлов получал серьезные и очень серьезные замечания за недопустимо медленные темпы и низкое качество оборонительного строительства. Получал справедливо, ибо годовой план в ЗапОВО выполнялся на 30 процентов. При этом сметой административных расходов предусматривалось затратить, например, в первом полугодии 1940 года 2.588.200 рублей, а фактически было израсходовано 2.855.900 рублей. Налицо приписки и явное завышение объемов выполненных и, соответственно, фактически оплаченных работ. Кстати, в УКСе (управление капитального строительства округа) на ремонт квартиры его начальника полковника Дралина и приобретение мебели затрачено около 14,5 тыс. рублей. Из государственных средств, разумеется. И виновные в нецелевом расходовании народных денег никакого наказания не понесли. Это всего лишь один эпизод.
Трудностей хватало везде. Сооружения в УРах не были оснащены вооружением. Но даже там, где оно имелось, его оказывалось невозможно установить из-за отсутствия броневых амбразур: промышленность не поставила. Укрепрайоны не были укомплектованы подготовленными гарнизонами. Формировать их за счет подразделений стрелковых дивизий? Но это значило оставить две стрелковые дивизии вообще без пулеметов и пулеметчиков.
Проверяющим легче: они приехали, набросали замечаний и уехали. А как добиться устранения недостатков, реализовать на практике теоретические изыски? Какими силами «принять меры», если только 10,5 % командиров полков имели академическое образование, чуть больше 30 % окончили военные училища, а остальные системно занимались в лучшем случае на краткосрочных курсах усовершенствования (среди командиров дивизий цифры не лучше)? Командир 11-го механизированного корпуса генерал-майор Д.Г. Мостовенко писал в отчете о боевых действиях: «К нашему стыду, следует признать, что мы, даже высший комсостав, своего театра на знали и не использовали его особенностей». Речь шла о театре военных действий, территориальном районе, который занимали подчиненные им войска и который им предстояло оборонять.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: