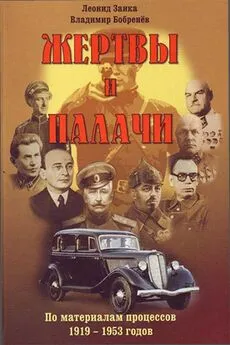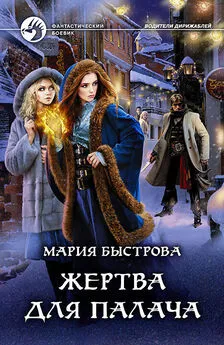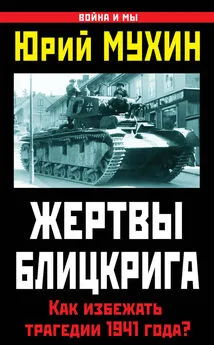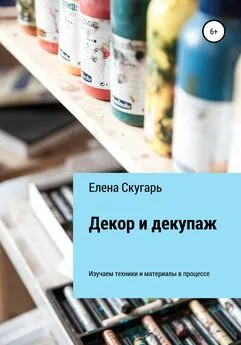Леонид Заика - Жертвы и палачи. По материалам процессов 1919–1953 годов
- Название:Жертвы и палачи. По материалам процессов 1919–1953 годов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Книжный мир
- Год:2011
- ISBN:978-5-8041-0568-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Леонид Заика - Жертвы и палачи. По материалам процессов 1919–1953 годов краткое содержание
Образный язык, глубокое знание предмета повествования (авторы имеют за плечами большой опыт прокурорской работы), привлечение обширного массива архивных документов, многие из которых длительное время оставались неизвестными российскому читателю, позволяют воочию представить страдания человека, попавшего под пресс классового, пролетарского правосудия. Нельзя освободиться от истории страны, в которой ты живешь. История требует осмысления. Наша книга для думающего читателя.
Жертвы и палачи. По материалам процессов 1919–1953 годов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Поистине странные вещи творились и на земле, и в воздухе. 17 марта воздушную границу в полосе ЗапОВО нарушила группа из 32 немецких самолетов. Войска предупреждались об ожидаемом пролете немецких эскадрилий по установленным «коридорам» — для обеспечения «безопасности гостей», дабы наши зенитчики не сбили их «по ошибке». Несколько позже, командир 212-го полка 49-й стрелковой дивизии подполковник Н.И. Коваленко лично имел возможность наблюдать большую группу немецких летчиков, прогуливавшихся по городу возле наших военных объектов. За два дня до этого, 15 мая 1941 года, нашу государственную границу пересек Ю-52. Летел он в направлении Белосток, Минск, Смоленск, Москва. Командир Западной зоны ПВО генерал-майор артиллерии Сазонов, начальник штаба 4-й бригады ПВО майор Артамонов узнали об этом уже из Москвы. ЧП? Безусловно. Но приказ наркома о вопиющем факте беспрепятственного пропуска через границу самолета вероятного противника появился на свет лишь 10 июня. В нем отмечалось, что «посты ВНОС 4 отдельной бригады ПВО Западного Особого военного округа вследствие плохой организации службы ВНОС обнаружили нарушивший границу самолет только тогда, когда он углубился на советскую территорию на 29 км, но, не зная силуэтов германских самолетов, приняли его за рейсовый самолет ДС-3 и никого о появлении внерейсо-вого Ю-52 не оповестили».
Никого и ничему тот случай не научил. Еще долгое время между Белостокским аэродромом и штабами 4-й бригады ПВО и 9-й смешанной авиадивизии не было связи. Кстати, линия ее была порвана не немецкими диверсантами, а своими — военными. Судили-рядили, обвиняли друг друга, торговались, кому же все-таки надлежит соединить оборванные провода.
Докладывая на заседаниях бюро ЦК КП(б) Белоруссии об обстановке на границе и состоянии войск округа, Дмитрий Григорьевич, как это было принято, не сгущал краски, не акцентировал внимания присутствующих на деталях, о которых говорилось выше. Хотя, если судить по сохранившимся стенограммам его публичных выступлений, обращений в вышестоящие инстанции, он давно пришел к выводу, который объявил своим судьям в самом конце судебного заседания:
«Я прошу доложить нашему правительству, что в Западном Особом фронте измены и предательства не было. Бее работали с большим напряжением. Мы в данное время сидим на скамье подсудимых не потому, что совершили преступление в период военных действий, а потому, что недостаточно готовились к войне в мирное время».
Знаменательное признание. И относится оно не только к Павлову лично и его товарищам по несчастью, а ко всем, кто так или иначе по долгу службы отвечал за безопасность границ. Одни чего-то недодумали, другие — недоделали, третьи — что-то проворонили, четвертые — ошиблись в выборе, пятые — переоценили свои возможности.
Уже после войны, анализируя события первых дней боев на Западном фронте и действия главных действующих лиц в разыгравшейся трагедии, генерал-полковник Болдин писал:
«Командующий войсками фронта Павлов Д.Г. виноват в том, что просил Сталина о назначении на должность командующего войсками округа, зная о том, что с начала войны он будет командующим войсками фронта. Павлов, имея слабую оперативную подготовку, не мог быть командующим войсками фронта».
К сожалению, не удалось найти подтверждение того, чтобы Павлов сам просил назначить его командовать ЗапОВО. Но в 1940 году Сталин и высшее военное руководство действительно подыскивали достойную кандидатуру на должность командующего войсками этого очень важного во всех отношениях округа. Остановились на двух генералах — Н.Н. Воронове и Д.Г. Павлове. В таком порядке им и поступили предложения. Воронов сразу и категорически отказался: я — артиллерист, хочу заниматься своим делом. Павлов согласился. Сталин вроде бы даже бросил тогда реплику: дескать, танкистам у нас под силу и то, что артиллеристы боятся поднять.
Продолжает дальше Болдин:
«Начальник штаба фронта Климовских В.К. виноват в том, что имея хорошую оперативную подготовку, попал под влияние Павлова и превратился в порученца Павлова. Начальник связи фронта Григорьев А.А. хорошо был подготовлен по оперативной и спецподготовке и занимаемой должности вполне соответствовал.
Считаю: Павлов Д.Г., Климовских В.Е. и Григорьев А.А. были нашими советскими людьми и высшую меру наказания понесли незаслуженно.»
Такое мнение высказал бывший подчиненный Павлова, который, кстати, в самом начале войны командовал войсковой группой на Западном фронте более успешно, чем другие. Он сумел с боями вырваться из окружения, нанеся противнику первые серьезные потери.
Ну а судебное заседание на процессе Павлова подходило к концу. Ни Павлову, ни другим подсудимым не удалось убедить служителей Фемиды из Военной коллегии Верховного Суда в несостоятельности предъявленных им обвинений. Правда, измену Родине Ульриху пришлось исключить из ранее предъявленного обвинения. То была единственная, пожалуй, победа генералов после начала войны: они не «враги народа», не изменники Родины и вражеской деятельностью против своей страны не занимались.
Сухие протокольные строки не передают, конечно, то напряжение, в котором находились обвиняемые, а пристрастные вопросы Ульриха лишь подчеркивают обреченность их положения. Никак невозможно отделаться от ощущения спланированности судебного представления. Что бы ни говорили подсудимые, сколь бы весомыми ни были их аргументы в свое оправдание, им всем предстояло быть расстрелянными, и не когда-нибудь, а именно 22 июля 1941 года. Выше, размышляя о феномене страха как одной из властных функций в тоталитарном государстве, мы говорили, что смерть одних служит назиданием другим. Дело не в конкретных личностях. Думается, все-таки Павлов не был жертвой, выбранной преднамеренно. Он просто подвернулся первым по руку, когда Молоху потребовалась жертва. И потом, в столь неудачно начавшейся войне высшему руководству страны и лично Сталину, во-первых, требовалось всенародно назвать виновников трагедии, свалить на них всю вину за тяжелое поражение на фронтах, а во-вторых, что, пожалуй, главное — наглядно продемонстрировать всем командирам и воинским начальникам, что будет с неудачниками, с теми, кто проигрывает сражения.
В 3 часа 20 минут председательствующий Ульрих огласил приговор и разъяснил осужденным их право ходатайствовать перед Президиумом Верховного Совета СССР о помиловании. В 3 часа 25 минут судебное заседание объявлено закрытым. Приговор гласил:
«Предварительным и судебным следствием установлено, что подсудимые Павлов и Климовских, будучи: первый — командующим войсками Западного фронта, а второй — начальником штаба того же фронта, в период начала военных действий германских войск против Советского Союза проявили трусость, бездействие власти, нераспорядительность, допустили развал управления войсками, сдачу оружия противнику без боя и самовольное оставление боевых позиций частями Красной Армии, тем самым дезорганизовали оборону и создали возможность противнику прорвать фронт Красной Армии.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: