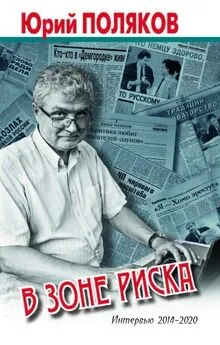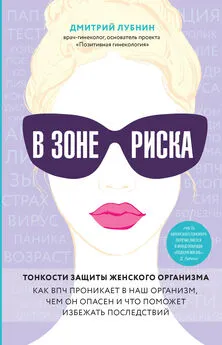Юрий Поляков - В зоне риска. Интервью 2014-2020
- Название:В зоне риска. Интервью 2014-2020
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Аргументы недели
- Год:2020
- ISBN:978-5-6043546-3-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Поляков - В зоне риска. Интервью 2014-2020 краткое содержание
Прозаик, публицист, драматург и общественный деятель Юрий Поляков – один из немногих, кто честно пишет и высказывается о нашем времени. Не случайно третий сборник, включающий его интервью с 2014 по 2020 гг., носит название «В зоне риска». Именно в зоне риска оказались ныне российское общество и сам институт государственности. Автор уверен: если власть не озаботится ликвидацией чудовищного социального перекоса, то кризис неизбежен. Вопиющая несправедливость, когда у одних «щи пустые, а у других жемчуг мелкий», ведёт к взрыву и повторении трагедии 1990-х.
В интервью поднимается масса острейших проблем: «русский вопрос», отчуждение «перелётной элиты» от народа, украинский фашизм, «пятая колонна» во власти, дегуманизация театра, литературы, кинематографа, отчизноездство и ложь СМИ… Особое место занимает принципиальная точка зрения автора на поправки в Конституцию и «транзит власти».
Конечно, публицистика Юрия Полякова вызывает много споров, но в своих книгах он всегда искренен. Его взгляды, оценки, прогнозы уточняются, развиваются, иногда пересматриваются, но никогда не зависят от конъюнктуры «либеральной жандармерии» и кремлёвских сквозняков. Отстаивая патриотизм и социальную справедливость, Поляков всегда говорит о том, что тревожит его самого, и, как оказывается, глубоко волнует всё наше общество.
В зоне риска. Интервью 2014-2020 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ:
«Сняться в кино или сыграть в спектакле? Нет! Никогда!»
– А вам самому никогда не хотелось сняться в кино по вашим сценариям или сыграть в спектаклях по вашим пьесам?
– Нет! Никогда! Мне периодически снятся два сна. Один: меня снова забирают в армию. А другой: я почему-то играю в спектакле, выхожу на сцену как артист и понимаю, что не помню ни одного слова из роли. Мне говорят: «Ты что, обалдел?!» А я не могу выдавить из себя ни звука! Нет, быть актёром, играть в кино или в театре, даже в своей пьесе, никогда не хотелось. Хотя в детстве я и ходил в театральный кружок! Но это другая профессия. Пусть на сцену выходят профессионалы и произносят наизусть слова, которые сочинил для них я. Это ли не счастье?
Подготовили к печати Любовь Моисеева и Александр Гамов «Комсомольская правда», ноябрь 2019 г.Москвич со стажем
– Как часто Вы бываете в центре Москвы? Какие Ваши типичные деловые маршруты?
– В Центре я бываю постоянно. Маршруты: Большая Никитская, Кузнецкий мост, Гнездниковский, Тверской бульвар, Старая площадь, Сретенка, Солянка, Чистые пруды…
– Что Вы скажете о тех районах центра, в которых чаще всего бываете? Как они изменились за последнее время?
– Изменились. Во-первых, почти все исторические здания отреставрированы. Даже взялись за жилой дом 18 века по проекту Казакова на углу Большого и Малого Златоустинских переулков, когда-то называвшихся Комсомольскими. Там жили мои родственники, и я в детстве у них часто бывал. А то ведь на историческом доме уже и берёзы стали расти. Сильно изменились дворы, в них стало приятно заходить, а уж о таких детских площадках мы полвека назад даже не мечтали. Расширение тротуаров тоже дело неплохое, но хочу напомнить, что пешеходов в Москве всё-таки больше, чем велосипедистов, а иногда складывается обратное впечатление.
– Вы бываете в местах своего детства и юности? Какие интересные истории случаются?
– Если есть возможность, я бываю там, где прошли мои детство и юность: на Бакунинской улице, в Балакиревском и Переведеновском переулках, где стояла моя 348-я школа, на Спартаковской площади, где был Первомайский дом пионеров, возле Елоховской церкви, там до сих пор в старинном особняке расположена библиотека имени Пушкина, куда я ходил в мальчиком. Недавно в Харитоньевском переулке в здании, где располагался наш райком комсомола, я вдруг обнаружил еврейскую спортивную школу. Дело-то хорошее. Но русской спортивной школы я нигде в Москве ещё не встречал. Может, и не надо российский спорт по национальным квартирам рассовывать? Да и вообще, как теперь определить этническую ориентацию учреждения? Ведь графы «национальность» в паспортах нет. Странная история.
Как-то увидел, что в доме на Маросейке, где я обитал с родителями в первые годы жизни, открылся цветочный магазин. Зашёл, озираюсь. Юная продавщица спрашивает:
– Вы что-то ищете?
– Нет, – отвечаю. – Просто места знакомые.
– В каком смысле?
– Я здесь жил.
– А вы ничего не путаете? До нас тут ателье располагалось.
– Не путаю. Тут задолго до ателье располагалась коммунальная квартира. Наша комнатка без окон вон в той части была.
– Когда же вы здесь жили?
– С 1954-го по 1957-й!
Через пять минут весь коллектив магазина высыпал поглазеть на забредшего к ним советского мамонта.
– Случается ли Вам во время прогулок по центру обнаружить какой-то незнакомый уголок? Вы говорили, что Вам интересны мемориальные квартиры. А какие из них Вас чем-то удивили?
– Иногда натыкаешься на удивительный дом, который раньше не замечал до реставрации. А недавно иду мимо здания консерватории и вижу напротив ворота во двор, захожу и столбенею. Представляете, перед входом в какое-то солидное финансовое учреждение цветёт двухметровый рододендрон с бутонам, величиной с кокос. «А как же зимой?» – спрашиваю охранника, вышедшего покурить. «Минус тридцать пережил!» – с гордостью отвечает тот.
Если прохожу мимо мемориальной квартиры и есть время, обязательно захожу. Недавно иду по Тверскому бульвару в Минкультуры. Звонят из приёмной: заседание откладывается. Вижу мемориальный музей Коненкова, мимо которого хожу лет сорок. Заглядываю. Фантастика. То, что он был гениальным скульптором, это я, конечно, знал. А то, что он являлся нашим чуть ли не резидентом в США и работал вместе с женой по атомному проекту, об этом даже не догадывался. Не проходите мимо мемориальных музеев!
– В статье «Где проспект Ивана Калиты?» Вы писали, что, живя в Балакиревском переулке, заблуждались насчёт того, чьё имя он носит, так как разъясняющих табличек в то время не было. Можно ли сказать, что сейчас с таким вот историческим просвещением стало лучше – появились таблички, QR-коды на стенах? Вы, кстати, когда-нибудь наводили на эти коды смартфон?
– Да, долгие годы я был уверен, что переулок, где я вырос, назван так в честь замечательного композитора. Оказалось, нет, в память о рабочем местной пуговичной фабрики, погибшем на гражданской войне. Кстати, площадь в честь композитора Балакирева появилась в Выхино-Жулебино только в 2017 году. Когда я писал нашумевшую статью «Где проспект Ивана Калиты?», её ещё в помине не было. Возникал вопрос, кто нам дороже: мятежный пуговичник или один из основоположников русской школы музыки? Кстати, большинство проблем, поднятых в той статье, так и не решены до сих пор. «Войковская» как была, так и есть. А проспекта Ивана Калиты, сделавшего Москву центром Русской земли, как не было, так и нет. QR-коды – дело хорошее, познавательное, но мраморные и гранитные доски, по-моему, надёжнее и уважительнее в отношении родной истории и знаменитых людей.
– Что бы Вы хотели изменить в Москве? (Вы много раз говорили о том, что не хватает памятников многим достойным людям и названных в их честь улиц).
– Давно пора создать серьёзную общественную комиссию и привести столичную топонимику, отражающую нашу историю, в соответствии с реальным весом той или иной фигуры. Убирать никого не надо, разве что – проредить: ну куда нам столько Роз Люксембург и Клар Цеткин? А вот добавить необходимо очень многое. Для примера: в столице нет улицы поэта Аполлона Григорьева, почти не отражено в топонимике такое чисто московское культурно-политическое явление, как «славянофильство». С памятниками – беда. Никакой логики. Почему есть памятники Плисецкой, Ростроповичу, Солженицыну, Высоцкому, Бродскому, а Улановой, Свиридову, Леониду Леонову, Рубцову и Фатьянову нет? То же самое с мемориальными досками. До сих пор на знаменитом доме в Лаврушинском переулке, где жили Булгаков, Кассиль, Ильф и Петров, Погодин, Катаев, Казакевич, Федин, Паустовский, Эренбург, Соколов, Пастернак и другие светочи советской литературы, висит лишь мемориальная доска в честь забытого ныне литературоведа, исследователя Горького Ю. Юзовского, пострадавшего во время борьбы с космополитами? Кто объяснит? Никто.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: