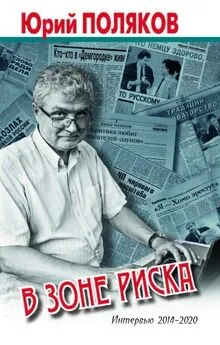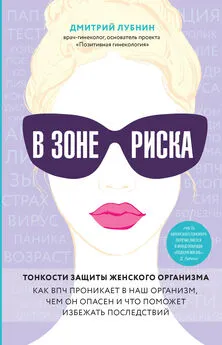Юрий Поляков - В зоне риска. Интервью 2014-2020
- Название:В зоне риска. Интервью 2014-2020
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Аргументы недели
- Год:2020
- ISBN:978-5-6043546-3-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Поляков - В зоне риска. Интервью 2014-2020 краткое содержание
Прозаик, публицист, драматург и общественный деятель Юрий Поляков – один из немногих, кто честно пишет и высказывается о нашем времени. Не случайно третий сборник, включающий его интервью с 2014 по 2020 гг., носит название «В зоне риска». Именно в зоне риска оказались ныне российское общество и сам институт государственности. Автор уверен: если власть не озаботится ликвидацией чудовищного социального перекоса, то кризис неизбежен. Вопиющая несправедливость, когда у одних «щи пустые, а у других жемчуг мелкий», ведёт к взрыву и повторении трагедии 1990-х.
В интервью поднимается масса острейших проблем: «русский вопрос», отчуждение «перелётной элиты» от народа, украинский фашизм, «пятая колонна» во власти, дегуманизация театра, литературы, кинематографа, отчизноездство и ложь СМИ… Особое место занимает принципиальная точка зрения автора на поправки в Конституцию и «транзит власти».
Конечно, публицистика Юрия Полякова вызывает много споров, но в своих книгах он всегда искренен. Его взгляды, оценки, прогнозы уточняются, развиваются, иногда пересматриваются, но никогда не зависят от конъюнктуры «либеральной жандармерии» и кремлёвских сквозняков. Отстаивая патриотизм и социальную справедливость, Поляков всегда говорит о том, что тревожит его самого, и, как оказывается, глубоко волнует всё наше общество.
В зоне риска. Интервью 2014-2020 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– Вы довольно критически оцениваете различные литературные премии и их лауреатов. Почему? Вас не устраивает уровень экспертов или их политическая ориентация?
– А как их ещё оценивать? Мы одно время в «ЛГ» печатали рейтинги продаж современных прозаиков, сведения нам предоставляла сеть Московского дома книги, а это около сорока магазинов. Так вот, помню, у обладателя премии «Национальный бестселлер» за год было продано три книги. Как переводится слово «бестселлер», помните? С другими лауреатами дело обстояло не намного лучше. Это к вопросу о «ликвидности премиальной литературы», если в её навязывание покупателю не вкладываются большие деньги. Мне звонит ваш коллега-журналист, просит высказаться о свежем обладателе «Букера». Отвечаю: «С удовольствием, если вы назовёте мне прошлогоднего лауреата!» «А я не помню…» Так зачем я буду высказываться о том, чего не помнят. Механику премиального хозяйства я изучил довольно хорошо, будучи «академиком» «Большой книги». Это лохотрон, где художественный уровень рассматриваемой книги почти не имеет значения, главное, чтобы автор был одной «группы крови» со спонсорами, экспертами и жюри. Конечно, всё закамуфлировано под объективность, но существует масса способов и приёмов для того, чтобы провести в «дамки» нужного человека. При чём тут литература? Я всё это и рассказал прессе, прежде чем хлопнул дверью и покинул ряды «академиков». Наши ведущие премии – это, за редким исключением, фильтры для сбора окололитературной грязи, которая почему-то выдаётся за родники отечественной словесности. Увы, это так… Настоящая литература редко попадает даже в «длинные списки». Вот такой противоестественный отбор. Покровительствует этой вредоносной системе Роспечать.
– Вы также выражали претензии в адрес романа «Зулейха открывает глаза». Что больше всего вызывает ваше возмущение – качество книги, тематика, её экранизация, спровоцировавшая сумасшедшую критику?
– Претензии можно высказать портному, если он криво пристрочил карман, а если он вообще шить не умеет, то какие уж тут претензии! Понятно, что эту беспомощную книгу разрекламировали те, кто согласен с «чёрным мифом» о России, тюрьме народов, истязавшей племена, имевшие несчастье оказаться в «Красном Египте». Понятно, что в основе сочинения лежит чья-то нелёгкая судьба, и реальные черты этой конкретной жизни – единственное, что оживляет текст. В остальном же это просто злобное антисоветское фэнтэзи. Есть у нас такой популярный жанр. Чувствуется, авторесса не читала ни «Канунов» Белова, ни «Драчунов» Алексеева, а возможно и «Поднятой целины» и просто не поняла, на каком высочайшем уровне эта тема поднималась в нашей литературе. Зачем? Она же писатель! Я слышал, что в продвижении книги серьёзно поучаствовали влиятельные люди из Казани. Не утверждаю наверняка, но не сказать про такие разговоры тоже не могу. На мысль, что мы имеем дело с дорогим политизированным проектом, наводит и экранизация, тоже из рук вон плохая, но назойливо прорекламированная. Случайно ли в фильме появился эпизод, когда мерзкий энкавэдэшник выкрикивает по списку фамилии репрессированных татар, а это оказываются имена известных деятелей татарской культуры, крупные религиозные фигуры, в том числе действующие… Ничего себе совпадение! Вспыхнувший скандал стремительно замяли. Ваша «Зулейха» вся состоит из криво пришитых потайных карманов…
– Сегодня самый тиражный жанр в нашей литературе— политическая фантасмагория. Лидируют в нём два популярных писателя-постмодерниста Виктор Пелевин и Владимир Сорокин. Как вы относитесь к их творчеству? Вы признаёте, что это серьёзные писатели в своей эстетике, или вам, как консерватору-реалисту, чуждо это направление?
– Как я могу относиться к этому жанру, если чуть ли не первыми политическими фантасмагориями в нашей новейшей литературе были «Невозвращенец» покойного Александра Кабакова (1990) и мой роман «Демгородок» с подзаголовком «Выдуманная История» (1993). «Демгородок», кстати, до сих пор переиздают и раскупают. К Владимиру Сорокину и Виктору Пелевину я отношусь с уважением, они талантливые писатели, которые идут своими путями, отличными от моего направления. Чей путь вернее, станет ясно лет через двадцать-тридцать. Кого в 2050-м будут перечитывать, тот и выиграл этот творческий спор. Всё по-честному. Это вам не «Букер». Я за их новинками, как профессионал, слежу, но не решусь сказать, что их книги – моё любимое чтение. Например, Юрий Козлов или Александр Терехов мне ближе.
– Лично вам насколько комфортно сегодня пишется, как литератору? Над чем работаете, какими тиражами печатаются и переиздаются ваши прежние книги? И почему они переиздаются?
– Пишется мне, как всегда, трудно и хорошо. Мой «крайний» роман «Весёлая жизнь, или Секс в СССР», вышедший в прошлом году, по продажам подбирается к 100 тысячам почти без всякой рекламы. Прежние мои вещи постоянно переиздаются. Тиражи небольшие, 5-10 тысяч, но зато переиздания идут постоянно. Спрос есть, порой ругаюсь с АСТ, что не успевают допечатывать и удовлетворять заказы магазинов. Только за последний год, помимо нового романа, вышли мои книги: «Селфи с музой. Рассказы о писательстве», «Три позы Казановы. Извлечённая проза», книга пьес «Он, она, они», публицистические сборники «Босх в помощь!», «Быть русским в России», «Честное комсомольское!». На выходе: 8-й том 12-томного собрания сочинений, три тома интервью (1986—2020), поэтическое избранное «Времена жизни», сборник «Мысли на ветер»… Пишу рассказы из цикла «О советском детстве». Вышла в свет книжка обо мне Михаила Голубкова. Вы, наверное, удивитесь: и чего это он так бранится, если у него всё хорошо? За Державу обидно.
– Ваши книги о советской эпохе замахивались на её устои, но теперь вы защищаете период застоя, говорите о росте интереса и уважения к опыту СССР, что люди соскучились по самоуважению и память о советском периоде даёт такой повод, так как тот строй, при всех его недостатках, был нацелен на созидание общества социальной справедливости и равных возможностей. Почему вы изменили свои взгляды?
– Во-первых, я никогда не замахивался на устои. Не зря Сергей Михалков как-то в шутку назвал меня «последним советским писателем». Я просто всегда честно писал и о том времени, и о нынешнем. Достаточно прочесть мои романы «Замыслил я побег…», «Небо падших», «Грибной царь», «Гипсовый трубач», «Любовь в эпоху перемен»… Конечно, спустя 30 лет, пережив крушение страны и своих иллюзий, я иначе вижу советское время. Не случайно в «Весёлой жизни…» я возвращаюсь к тем временам, которые описаны у меня в «ЧП…» и «Апофегее». Но тот, кто прочтёт «Весёлую жизнь…», убедится: я не перестал видеть недостатки советской жизни, я просто стал лучше понимать достоинства того жизнеустройства. Кстати, интерес к советскому прошлому нарастает в нашем обществе… Случайно ли?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: