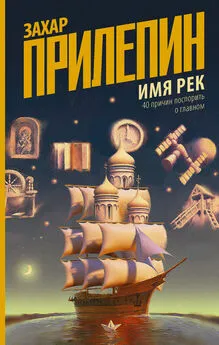Захар Прилепин - Имя рек. 40 причин поспорить о главном [litres]
- Название:Имя рек. 40 причин поспорить о главном [litres]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент АСТ
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-122205-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Захар Прилепин - Имя рек. 40 причин поспорить о главном [litres] краткое содержание
Перед вами – итоги моих болезненных размышлений о нашем с вами Отечестве.
Чтоб понять, кто мы и зачем, нужно было заново пересобрать все представления, и я бережно, с тщанием ребёнка, пересобрал.
В какой точке бытия находимся мы и куда следуем. Что есть Родина. Какое отношение мы имеем к Древней Руси. Насколько близки к нам князья династии Рюриковичей и кто для нас Грозный Иоанн. Как мы из дня нынешнего видим “белых”, и что нам думать о “красных”. И прочие попутные вещи, осмыслять которые мы не перестанем ещё долго: Великая Отечественная и бесовские пляски вокруг неё, украинский, погрязший во лжи, вопрос, Владимир Семёнович Высоцкий, российские демократы, русский, берега потерявший, рок, земля у нас под ногами и звёздочка у нас над головой.
Беспощадные русские вопросы, милосердные русские ответы».
Захар Прилепин
Имя рек. 40 причин поспорить о главном [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Человек вернулся к родному, национальному, консервативному. Потому что в нём это было заложено усидчивостью.
Сейчас миллион носителей, бесконечные новостные ленты, все куда-то торопятся, спешат очароваться и разочаровываться.
Человек обжирается заголовками до тошноты, до икоты, до карусели в глазах.
Ни одну долгую информацию не способен усвоить – сразу начинает брыкаться и орать: предатели, меня снова предали!
Человек, эй. Успокойся.
Надо снова работать над получением долгой информации. Перестать бесноваться.
Возьми толстую книжку. Почитай в тишине.
Перестань скакать с заголовка на заголовок.
Уверяю тебя, человек. Ты ничего не пропустишь. Напротив, многое встанет на свои места.
А то так и будет продолжаться, когда скептик, притворно тоскуя, цедит: «Был бы с тебя, товарищ, толк, если б ты и Николая Романова осудил бы, и Ленина не слишком хвалил бы, и рэп не слушал, и перестал проповедовать устаревшие свои православные благоглупости, и светился поменьше, и отсвечивал бы не так ярко».
Всё хорошо было б, милый. Просто тогда это был бы не я, а ты, скептик.
А я – не ты.
Я – тот, о котором ты говоришь.
Нынче порой создаётся одно навязчивое, но ложное, надеюсь, ощущение – вынесу его в отдельную строку.
Чтоб заработать лёгкую славу, нужно потворствовать кровавым инстинктам некоторой части населения России.
Люди! Не будьте кровожадными. Никого это ещё не доводило до добра. Россия никогда б не стала бы столь огромной географически и не прожила бы тысячу с лишним лет, когда б жила по ветхозаветным законам, и убивала всякого провинившегося.
Более того: надо помнить, что вослед за кровопролитием неизбежно следует жестокое отрезвление, чреватое массовым разочарованием и последующим хаосом.
Мы помним, чего притворяться-то, как рада была вся страна перестройке. Как миллионы смотрели, не отрываясь, трансляции съездов Верховного совета, где куда бо́льшие идеалисты, чем Горбачёв, за редча-а-а-а-а-йшими исключениями, несли невиданную чушь.
И все они были, не поверите, народными избранниками. Это вы их избрали тогда.
Ещё я помню, как многие, десятки миллионов, обожали Ельцина и верили ему.
И, главное: мы все знаем, с каким остервенением почти на каждой кухне, почти у каждого телеэкрана, кляли тогда – и в 1987 году, и в 1991-м, и в 1996-м, и даже в 2006-м, – Ленина, Сталина и Брежнева. Иной раз я думаю, что делали это сплошь и рядом те же самые люди, что сегодня требуют расправы над престарелым Горбачёвым или мёртвым Ельциным.
То есть, я не просто думаю, а многих из этих людей знаю лично.
Когда я наблюдаю за нынешним остервенением части нашего общества, у меня возникают два очень разных чувства.
С одной стороны, мне понятна эта боль, этот ужас о распаде империи.
Со времён распада мой восхитительный народ прошёл великий путь, осознав многие ошибки последней четверти века.
Более того, своим молчаливым и мрачным большинством народ во многом переформатировал власть, заставив прислушаться к своему молчанию, – за которым оказалось скрыто великое знание и великая вера. Вера в нашу национальную правоту. Вера в огромность и величие красного XX века. И презрение к разрушителям советского имперского проекта.
С другой стороны, я помню и своё остервенение в 1993 году, и в 1996-м, и в 1998-м: когда кошмар предательства элит открывался мне. Я, что скрывать, жаждал тогда реванша, желал отмщения. Мне хотелось перебить всю эту квазидемократическую свору едва ли не своими руками.
Но я помню, как на митинги оппозиции с красными серпасто-молоткастыми знамёнами выходили в лучшем случае сотни людей. Сотни! Зато сотни тысяч, в том числе и те, думаю, что сегодня так ретиво возмущаются мягкостью, как им кажется, моей позиции, – курсировали мимо, лениво глядя в окно трамвая на эти, казалось бы, нелепые и смешные сборища.
С тех пор прошло двадцать лет и даже больше. Моё остервенение остыло. Даже после Великой Отечественной, спустя четверть века, никто в Советском Союзе не рвался добить всех немцев.
Это нормально: мы же люди. Человеку свойственно осмыслять и не растравливать свои раны – смысла в этом всё равно нет.
…Остервенение остыло, но многие только сегодня, с завидным запозданием, вдруг постигли, что́ мы потеряли в 1991-м и в 1993-м.
Товарищи дорогие. Давайте лучше вместе учиться различать признаки катастрофы вовремя, а не постфактум. Нас ещё ждут новые испытания. Не хотелось бы, чтоб мы осознали их задним числом, четверть века спустя. И требовали расправы над очередным Горбачёвым, когда всё уже свершилось, и размахивать руками слишком поздно.
Побеждать мумии и воевать с престарелыми – большого ума не надо.
Помните, наконец, чем более всего гордился национальный гений – Александр Сергеевич Пушкин.
Тем, что, цитирую, «…милость к падшим призывал».
Милость он призывал, слышите? А не суд кровавый.
Неизбежный путь домой
Долгое время чувство отторжения от всего своего, родного, посконного, родового было почти непреодолимым.
Начало всех этих процессов было положено ещё при Петре Великом.
Прозвали его Великим не просто так – основания для того имелись самые веские, – но, увы, именно в его правление из богатых домов начали выносить сундуки, наполненные разнообразным ветхим добром, разом потерявшим «актуальность».
Наличники посбивали с окон, а вся эта береста, деревянные ложки и плошки – полетели в печь.
Следом сами печи начали сносить и строить камины – что в России оказалось крайне непродуктивным: тепло не хранится, а выветривается, люди мерзнут, болеют, – глупо же.
Петербург начал наступление на Москву. Москва дулась, пыхтела, но стала поддаваться.
«…зашли мы к лучшему ваятелю поискать богов славянской мифологии, – писал поэт Фёдор Глинка о своём посещении Москвы накануне 1812 года. – Нам показали множество Аполлонов, Флор, Венер. Последних стоял целый ряд: Венера Медицейская, Капитолийская… и проч. и проч. Но там не было ни одной Лады… Для русских богов и форм не было. Никому ещё до сих пор не приходило в голову украсить ими дом или сад свой».
Всё то же подмечал Глинка и по пути из Москвы в Петербург: «Пифагор, пристав к неизвестному берегу, где нашёл начертанные на песке математические фигуры, заключил и не ошибся, что там живут любители наук. Что же до́лжно заключить, видя стены русских трактиров, исчерченные французскими изречениями?.. Мы искали чего-нибудь русского, искали со свечой и едва могли найти…»
Одни и те же процессы начались сразу и везде: и в языке, и в бытовой культуре, и в изобразительном искусстве, и в русской песне.
Грубо говоря, мужик остался наедине с национальной культурой – барину это было уже не надо. Барин хотел, чтоб у него теперь всё было «как у француза».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Захар Прилепин - Имя рек. 40 причин поспорить о главном [litres]](/books/1066958/zahar-prilepin-imya-rek-40-prichin-posporit-o-glav.webp)




![Захар Прилепин - Истории из лёгкой и мгновенной жизни [litres]](/books/1073694/zahar-prilepin-istorii-iz-legkoj-i-mgnovennoj-zhizn.webp)


![Захар Прилепин - Всё, что должно разрешиться. Хроника почти бесконечной войны: 2013-2021 [litres]](/books/1143112/zahar-prilepin-vse-chto-dolzhno-razreshitsya-hronika-pochti-beskonechnoj-vojny-2013-2021-litres.webp)