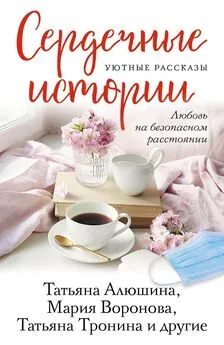Мария Воронова - Итак, история… (О писательском ремесле)
- Название:Итак, история… (О писательском ремесле)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Мария Воронова - Итак, история… (О писательском ремесле) краткое содержание
Александра Маринина
Итак, история… (О писательском ремесле) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Но что же делать, если нас просто распирает от активной гражданской позиции? Если мы очень хотим высказать свое мнение по важному социальному вопросу? Куда его всунуть? В авторский текст? Но подобные отступления хорошо смотрелись в длинных и неторопливых романах девятнадцатого века, когда еще не изобрели ток-шоу и радио «Эхо Москвы». Тогда для обывателя, не вхожего в политические круги, прочитать вставленное в роман эссе о насущных общественных проблемах было единственной (не считая газет и листовок) возможностью узнать мнение умного и компетентного человека.
Не то теперь. Теперь вы моргнуть не успеваете, как узнаете чью-то гражданскую позицию, не менее активную, чем ваша. Вы отказываетесь от телевизора, записываете себе километровые плей-листы в машину, но стоит выйти в интернет, как пожалуйста! Куча народу предлагает вам свои остросоциальные посты.
В условиях информационной перегрузки лобовая атака на мозг читателя из книги будет, мягко говоря, излишней.
Лучше уж заведите себе блог и там изливайте душу.
А в книге вы прекрасно можете выразить свою точку зрения с помощью конкретных примеров. Для этого есть такая форма, как рассказ в рассказе. Пусть ваш герой вместо обличительной речи поведает историю конкретного человека, вот и все.
Ну а если уж совсем никак, то потратьте время и выпарите из вашей позиции самую суть. Сформулируйте ее одним предложением, и вложите в уста героя, чье мнение совпадает с вашим. Читатель будет в восторге. «А ведь и правда!» – воскликнет он.
Он поблагодарит вас, что вы потрудились четко и ясно сформулировать его собственные мысли по данному вопросу.
Не считайте читателя недоумком, которому нужно разжевывать прописные истины.
Вообще никогда не считайте читателя глупее себя.
Теперь о стиле.
Главное, что нужно о нем знать – хороший стиль не спасает плохую историю.
Очень-очень плохой стиль может загубить хорошую, но самый лучший не вытянет плохую. Даже наоборот. Завороженный прекрасным языком читатель будет в ярости, если в конце окажется пустышка.
Это видно даже на примере коротеньких постов в блогах и соцсетях. Есть такие, которые написаны просто превосходно – живо, остроумно, музыкально. Язык выше всяких похвал. И общее впечатление «ниачем». Серо, скучно. А автор просто поленился придумать историю. Я говорю именно поленился, потому что большой словарный запас и умение им пользоваться есть признак высокого интеллекта. А когда человек с высоким интеллектом сядет и подумает как следует, то все у него получится.
Если вы хотите писать хорошо, то надо много читать хороших книг, а лучше слушать. Я, приступая к каждому новому тексту, слушаю «Мертвые души» или «Господа Головлевы».
У каждого автора свой, присущий ему язык, и тут, наверное, учить – только портить.
Все же позволю себе дать несколько советов, и первый из них будет афоризмом, почерпнутым на просторах интернета:
«Сокращай речь до смысла!»
Вот как бы и все. Выражайте свою мысль максимально ясно.
Действуйте по принципу Коко Шанель. Как известно, она рекомендовала продумать свой образ, одеться, а перед выходом посмотреть в зеркало и снять какую-нибудь одну вещь.
Убирайте из предложения слово, из абзаца – предложение, из главы – абзац, из текста – главу, и тогда ваш текст станет по-настоящему элегантным.
Не гоняйтесь за метафорами. Они сами приходят к трудолюбивым авторам, которые не стесняются описать голубые глаза как голубые глаза, а не как осколки весеннего неба.
Хорошая метафора развернет перед читателем красочную картину, но метафора натужная, тяжеловесная, брошенная не к месту, порвет тонкую ткань нашего повествования и обнажит перед читателем скелет истории. Магия ослабнет, или развеется совсем.
Избегайте многословия, особенно когда хотите выразить важную идею. Желание это понятно. Умная и тонкая мысль вместилась всего в одно предложение, и так страшно, что она затеряется в остальном тексте, останется незамеченной. На всякий случай следует ее повторить. А потом еще. А потом еще раз, несколько перифразировав. И то еще сомневаемся – а читатели точно поняли? Может, еще разок?
Нет, делать этого не нужно.
Но если в тексте разжевывание и акцентирование еще как-то усваивается, то в диалогах я совершенно не переношу такой вещи, которую про себя называю «закадровый смех». Это когда герой изрекает какой-нибудь фантастически мудрый афоризм или гомерически смешную остроту, а собеседник тут же реагирует примерно таким образом: «боже, как умно! это надо записать и высечь в мраморе!» или: «я сейчас лопну со смеху». Удаляйте эти ремарки. Читатель прекрасно сам догадается, где умно, а где смешно.
Вслед за Стивеном Кингом повторю: «наречие вам не друг». В русском языке множество глаголов. Вместо «быстро побежал» – «помчался». «Медленно сказал» – «протянул».
Запас велик, но избегайте излишне выразительных глаголов еще больше, чем наречий.
Если герой сказал, то он сказал, а не продекламировал и даже не произнес.
Жизнь наша, в общем, складывается из того, что мы где-то были и что-то сказали.
Или спросили, но не вопросили. И тарелку на стол мы скорее поставили, а не водрузили.
Вот взятый наугад отрывок из «Мертвых душ»:
«– Скажите! и много выморила? – воскликнул Чичиков с участием.
– Да, снесли многих.
– А позвольте узнать: сколько числом?
– Душ восемьдесят.
– Нет?
– Не стану лгать, батюшка.
– Позвольте еще спросить: ведь эти души, я полагаю, вы считаете со дня подачи последней ревизии?
– Это бы еще слава Богу, – сказал Плюшкин, – да лих-то, что с того времени до ста двадцати наберется.
– Вправду? Целых сто двадцать? – воскликнул Чичиков и даже разинул несколько рот от изумления.
– Стар я, батюшка, чтобы лгать: седьмой десяток живу! – сказал Плюшкин. Он, казалось, обиделся таким почти радостным восклицанием. Чичиков заметил, что в самом деле неприлично подобнее безучастие к чужому горю, и потому вздохнул тут же и сказал, что соболезнует.
– Да ведь соболезнование в карман не положишь, – сказал Плюшкин. – Вот возле меня живет капитан; черт знает его, откуда взялся, говорит – родственник: «Дядюшка, дядюшка!» – и в руку целует, а как начнет соболезновать, вой такой подымет, что уши береги. С лица весь красный: пеннику, чай, насмерть придерживается. Верно, спустил денежки, служа в офицерах, или театральная актриса выманила, так вот он теперь и соболезнует!»
Как вы сами видите, Чичиков в предвкушении удачной сделки, поэтому он «воскликнул», но потом все равно «сказал». А Плюшкин спокоен, и он сказал, сказал и сказал три раза подряд. И произведение от этого нисколько не пострадало.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
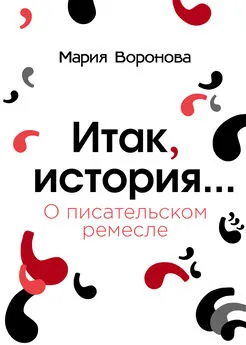

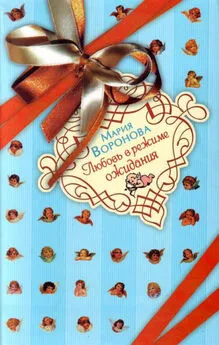
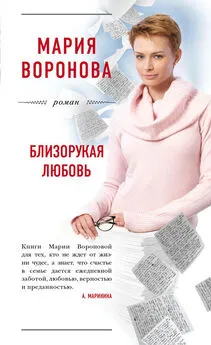
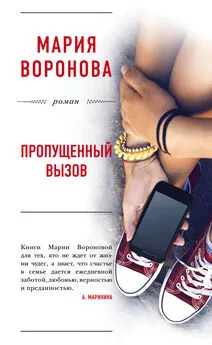
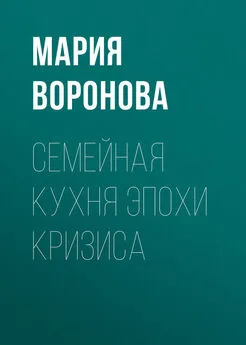
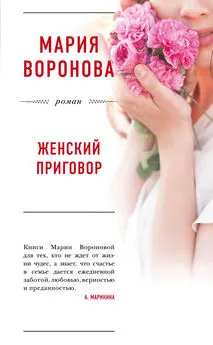
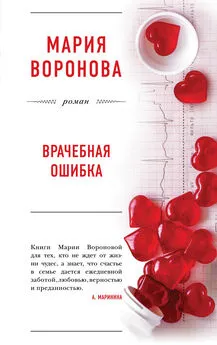
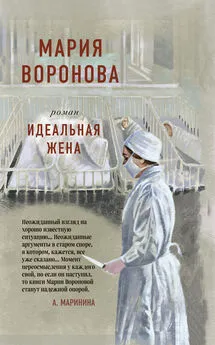
![Мария Воронова - Погружение в отражение [litres]](/books/1076564/mariya-voronova-pogruzhenie-v-otrazhenie-litres.webp)