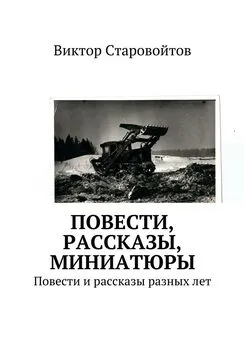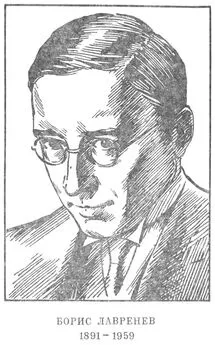Вениамин Додин - Повести, рассказы, публицистика
- Название:Повести, рассказы, публицистика
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вениамин Додин - Повести, рассказы, публицистика краткое содержание
Повести, рассказы, публицистика - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Патриарх по–домашнему угощал чаем родителей моих в своей трапезной келье, где маме пришлось не раз бывать из–за болезни старца.
Окруженный с некоторых пор откровенными недоброжелателями и просто неискренними людьми, он страдал душевно. Но и муки телесные сильно его одолевали. Хотя шел ему только пятьдесят девятый год, а лиха за последние годы натерпелся владыка сполна. И если верить врачам, из них из всех доверял он только маме. И хотя была она «не его веры», он, услышав о ней еще в Америке, а затем и встретясь с нею там же, подивился восторженно ее делам. А потом все годы пристально и ревниво наблюдал за становлением ее как «медика Божьей милостью» — так он говорил. И был горд, полагая, что и его доля усилий есть «в строительстве по воле Божьей великой подвижницы в делах человеколюбия»…
Не то чтобы он так уж страшился за свою жизнь: человек большой смелости. Но если до него доходили стороной слухи о то и дело погибающих знакомых священнослужителях, еще и умирающих внезапно и непонятно из–за чего, недавно еще здоровых и бодрых духом? Поневоле он начинал подозревать всех, неожиданно появлявшихся около него. А мама и отец бывали у владыки только по приглашению его, когда он болел. И чтобы так, как сейчас, незваными явиться к Патриарху — пусть даже «по старой дружбе» — считалось ими бестактным, непозволительным, чуть ли не амикошонством. Владыка был им всегда рад, хотя приходили они всегда с нуждою, с просьбою, как водится, не для себя. Ведь не для себя же мама в 1907 году просила Василия Ивановича позаботиться о сиделках для балтийских госпиталей. И он, ни дня не мешкая, отослал из монастырей Северо—Запада России сотни монахинь для ухода за ранеными. А чуть позднее, на стыке 1908–1909 годов, сломал сопротивление чиновников от медицины, да и активное, воинственное недоброжелательство самого истэблишмента российского к «Маньчжурскому братству»! Эта публика не без оснований почувствовала в инициативе мамы и ее единомышленников действенный протест полевого офицерства против продолжающегося и после окончания русско–японской войны откровенного ограбления госпитального хозяйства, хотя бы «скобелевскими» чиновниками.
Теперь родители мои явились к Патриарху снова «не для себя».
Сообщение мамы о приезде Маннергейма Тихон принял спокойно. Только, рассказывала мама, она почувствовала, что старик будто бы повеселел. Засветился. Он был явно горд поступком Густава. Потому «сетования» мамы о неоднозначности религиозной принадлежности сестры и ее жениха пропустил он мимо ушей, бросив ей:
— Мы с тобою, Фанечка, тоже разных религий дети, однако оба вместе такое таинство разрешаем, которому, возможно, аналогов нет даже в драме нашего времени! А решим мы его тоже по времени. Тем более оба христиане они…
Патриарх подумал с минуту. Сказал:
— Сейчас распоряжусь узнать, не отъехали ли Кленовицкие к себе в Вятку… И если они еще здесь — полагаю, лучше придумать невозможно…
И на немой вопрос мамы ответил:
— Это друзья мои, братья Кленовицкие — Павел Михайлович и Николай Михайлович, священники оба. И их отец пастырем был примерным. Так что, если они еще в Москве, будет кому требу вашу справить… Ни за что не опасаясь…
…Из церквушки на Поварской Катя и Густав вышли за полночь.
С ними «свидетели по жениху» — мой отец, «иной веры» человек, благословленный самим Патриархом, и Максимилиан Карлович Максаков—Шварц. И «свидетели по невесте» — Мария Петровна Максакова и мама, женщина тоже «иной веры»…
— Вот фотографию бы еще… — Густав вдруг произнес мечтательно. — Хорошо бы фотографию сделать… На память…
— Какую еще фотографию?! С ума сошел! «Фотографию»! В вашем–то положении! Вам убраться с Катей успеть! «Фотографию»!.. Может быть, еще на Лубянку явиться — визит нанести Дзержинскому? «Фотографию»!.. — Это Бабушка взвинтилась, возмущенная мальчишеством Густава…
— Тихо, тихо! — успокоил ее Густав. — Тихо! Полагается так. Ясно?
Тут самый немногословный участник сборища — будущий мой отец — предложил:
— В получасе хода, на Кузнецком, устроился Наппельбаум…
Моисей Соломонович Наппельбаум, фотограф–художник, возвратясь из Америки, в начале 1917 года открыл на чердаке семиэтажного дома по Невскому проспекту, на стыке его с Литейным, рядом с госпиталем Преображенского полка, фотографический салон. Когда редкий приезд родителей в Петроград совпадал с большой выпиской, врачи и часть раненых шла к Наппельбауму «запечатлеться». Там мама и отец познакомились с мастером. И стали друзьями. В осенние месяцы 1923 года Наппельбаум по требованию правительства переехал в Москву, он первым допущен был снимать Ленина и большевистских бонз. И в двухэтажном доме, что на углу Кузнецкого моста и Петровки, открыл мастерскую–фотоателье. Там и были сделаны фотографии новобрачных и компании. Снимки должны были быть готовы к полудню. Негативы — уничтожены…
«Маньчжурское братство»
Моя мама — участница пяти войн.
На первой — русско–японской — была она операционной сестрой Приватного лазарета петербургского врача Розенберга, «лейб–доктора» вдовствующей императрицы. В эту войну бросилась она вслед своему жениху — Мишелю Вильнаи, военному хирургу, оставив по его телеграмме медицинский факультет Сорбонны. В Маньчжурии оказался и приятель мамы с детства, друг ее кузины Екатерины Гельцер — Карл Густав Маннергейм. Вопреки «порядкам» при дворе, именно он удостоился любви Катерины, появившейся на сцене Мариинки после двухлетнего звездного дебюта в Большом театре. Не августейший назначенец, как это случилось с будущим Николаем II и Матильдой Кшесинской, а скромный улан покорил сердце «блистательной московской дивы». Двор «взорвался», и Катерину срочно вернули в старую столицу. Только уже ничто не могло теперь разлучить их— ни расстояния меж Москвою и Петербургом, ни восточная экспедиция Маннергейма, ни затяжные зарубежные гастроли самой Кати.
По возвращении в Россию и по окончании пятилетнего курса Медико–хирургической академии полтора года проработала мама нейрохирургом на двух Балканских войнах. Там, далеко от российской столицы, раскрылась ей сокрушающая страну мерзость окружения семьи Романовых. В частности, роль его в зачине войн 1904–1913 годов и его усилия в провоцировании будущей всеевропейской бойни 1914–1918 годов. Но главное — нескончаемые попытки его погубить любовь Кати и Густава. Маме, в ее восемнадцать лет еще в Порт—Артуре пережившей смерть мужа, было это куда как ближе всех проблем войны и мира!
…Начало века окончилось для нее гибелью любимого человека, падением Порт—Артура, работой в Японии, возвращением на родину через Америку… Она училась и практиковала в лазаретах Гельсингфорса, Ревеля, Вииппури и Петербурга. Туда, в реабилитационные клиники процветающих городов Балтии, судами Красного Креста Германии доставлялись с востока раненые русские солдаты, матросы и офицеры. Многие из этих несчастных прошли и мамин госпиталь в Маньчжурии и Порт—Артуре. Ее работа на войне, ее труд в Японии были с благодарностью оценены. Правда, сперва японским обществом — общество российское упивалось злорадством поражения в войне. Популярность маминого имени в Японии (в свое время она «выходила» члена императорской семьи Сейко Тенно) переросла почти в почитание, когда японская пресса раскрыла историю с ее предком Саймоном Шипером, которому она приходилась внучатой племянницей. Механик–инженер корвета «Геде» Королевского военно–морского флота Голландии, он в 1855 году с экипажем судна пришел на помощь терзаемому чумой городу–порту Нагасаки. Сделав свое святое дело, Шиппер заболел сам, 11 августа умер и был похоронен как герой на интернациональном кладбище Инаса. Через полстолетия, 18 сентября 1905 года, в сопровождении премьер–министра Японии Таро Кацура и мэра Нагасаки Иосуэ Норимото мама посетила святую для японцев и дорогую для нее могилу.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: