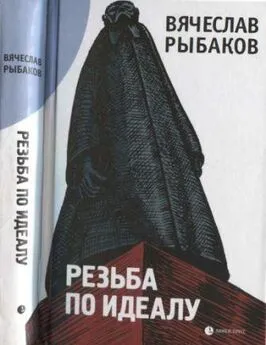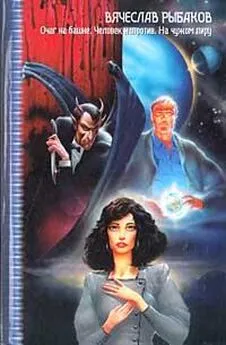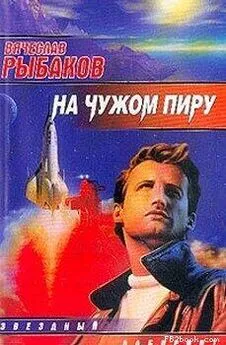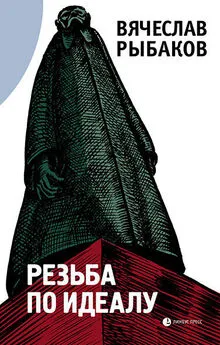Вячеслав Рыбаков - Резьба по Идеалу
- Название:Резьба по Идеалу
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЛИМБУС ПРЕСС ООО «Издательство К. Тублина»
- Год:2018
- Город:СПб.
- ISBN:978-5-8370-0864-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вячеслав Рыбаков - Резьба по Идеалу краткое содержание
Резьба по Идеалу - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Поэтому мы частенько продолжаем обсуждать, с чего начать, когда работу давно пора уже заканчивать.
У нас нет и никогда не было синкретизма различных религий. В Китае буддизм, даосизм, конфуцианство, причём в ипостасях многообразных школ и сект, довольно мирно сосуществовали многие века. Конкурировали, конечно. Но это было пульсирование внутри органической системы. Колебания удельного веса взаимосвязанных частей. Ни одно из этих учений никогда всерьёз не претендовало на уникальность, на то, чтобы полностью вытеснить соперника, объявить его адской погибелью или вражьим голосом, искоренить огнём и мечом. Поэтому китайцам, сколько я понимаю, не слишком-то присущ подход, столь распространённый у нас: «Если я прав, то ты — нет». Там скорее мыслят так: « Я прав в том-то и тогда- то, а ты — в чём-то ином и в иное время».
В смысле поиска взаимоприемлемых решений и способов сотрудничества такой подход явно более продуктивен.
В Китае в течение тысячелетий ковались высочайший престиж государственной службы и непоказное отношение к государственным служащим как к лучшим людям и примерам для подражания. В том числе и в среде самих этих государственных людей, но главное — среди всего образованного слоя. Заманчивость самореализации на поприще государственного служения и обретения всё более высокого самоуважения и социального статуса через успешное принесение социальной пользы сделались одной из существеннейших жизненных мотиваций. Это было что-то вроде неба на картине мира. А мне летать, а мне летать охота…
У нас такого, к сожалению, не сложилось. У нас вместо картины мира был застарелый лубок «добрый царь — злые бояре», поверх которого несколько позже кривовато нашлепнулись «святые интеллигенты». Поди-ка в этих координатах полетай. Взамен крыльев — язык без костей.
В Китае никогда не было, и в двадцатом веке так и не возникло, сколько-либо распространённого отношения к государствообразующей ханьской нации как к тюремщице народов. У нас же в течение весьма долгого времени культивировалось, и в конце концов для некоторых социальных слоёв стало едва ли не аксиомой, едва ли не критерием для распознавания «свой — чужой», утверждение «быть русским — стыдно». А ведь это только называется так: государственные структуры, социальные механизмы… На самом деле всё это не более чем люди, делающие своё дело с той или иной степенью увлечённости и самоотдачи. Эффективность социальных механизмов немало зависит от самоуважения этой самой государствообразующей нации, от её ориентированности на высокие смыслы, на исполнение своего долга и самореализацию посредством принесения общей пользы. Униженный человек при прочих равных всегда работает хуже и халтурит больше, менее решителен и более корыстолюбив, нежели человек, который гордится собой.
Да к тому же попробуй поруководи теми, кто заведомо числит твой народ и, стало быть, тебя «позором человечества».
К моменту проникновения в Россию европейской культуры с европейской же концепцией коммунизма мы не успели выработать собственного, органичного и априорно признаваемого значительной частью населения представления о желаемом мире — образа так называемого светлого будущего. Коммунизма не стало — и не стало никакой картинки манящего будущего, никакой нерелигиозной, не-потусторонней масштабной цели. А именно светский образ сообща желаемого будущего даёт светским обществам устойчивость.
В этом болезненная культурная слабость России при всех её достижениях на культурном поле.
В Китае такая картинка, в общем, была. Очень своеобразная и, в отличие от европейских утопий, не выдуманная нарочно как полная альтернатива реальности, а потому не требующая нового человека.
Социальное государство, которое мало что впрямую конфискует у народа, но тем не менее непрерывно занято справедливым перераспределением изымаемых через налоги излишков для того, чтобы компенсировать, смягчать последствия стихийных бедствий, социальных катаклизмов, индивидуальных несчастий. Сильная система вспомоществования, социальных льгот — старикам, переселенцам в необжитые края, тем, кто сумел бежать из вражьего плена, просто одиноким. Культ семьи и семейной взаимопомощи; чем более в почёте семья, чем она крепче — тем, значит, ближе общество к идеалу. Никакого европейского «родители мне все должны, но я свободная личность, и они не имеют права мне указывать». Сильнейший внутренний посыл к самосовершенствованию через государственное служение, которое, в свою очередь, совершенствует мир.
Этот комплекс априорно заманчивых представлений о будущем укоренился на эмоциональном уровне, а потому не нуждается в рациональных обоснованиях и устойчив к рациональным нападкам. Он складывался две тысячи лет, стал практически неколебимым и после каждой социальной судороги вновь выводил Китай на его собственный путь дальнейшего развития.
Мы не имели и не имеем такого комплекса, вот до сих пор и мечемся между конструируемыми чисто от ума, скоропортящимися и вдобавок взаимоисключающими версиями будущего.
Во время яркой, жуткой, но короткой попытки Цинь Ши-хуанди построить первое в истории человечества тоталитарное общество заново формулируемые и жестоко внедряемые государством законы были направлены на разрушение традиционной морали, на разрушение горизонтальных связей между людьми, потому что стремились каждого человека оставить один на один с государством. После краха этой попытки законодатели более никогда не сталкивали, не противопоставляли мораль и закон. Напротив, законы чем дальше, тем больше писались под диктовку традиционных моральных норм, подпирали эти нормы уголовными санкциями. Поэтому китайцы, при том что, как и все нормальные люди, всегда избегали лишний раз связываться с расследованиями и судами, закон почитали достаточно свято. У них никогда не могла бы возникнуть наша русская максима: «Как судить будем — по закону или по правде?»
Это, кстати, хороший пример. О нём поподробнее.
За века подобного отношения к закону (откуда оно взялось — разговор отдельный) в России возникли и давно стали привычными до незаметности, до неосознаваемости механизмы регулирования жизни и общего взаимодействия помимо законов, вместо законов, в обход законов и под прикрытием законов. Жизнь-то всё равно шла себе, менялись потребности, обстоятельства и исторические вызовы, люди торговали, изобретали, работали и вообще — строили свою державу и защищали её. Поэтому, скажем, любое нововведение, целиком зависящее от простого законопослушания, неукоснительного соблюдения инструкций и уставов, у нас обречено на неэффективность. Как бы гладко оно не выглядело на бумаге. Русский человек всегда найдёт причину или повод сказать: «Да забыли про овраги» — и начать действовать с учётом этих реальных или наспех нарочно выдуманных оврагов, положив при том на бумагу с прибором. Вот уж кто-кто, а россиянин никогда не был и никогда не мог бы стать «винтиком» государственного механизма. Ни при царе, ни при Сталине, ни при Путине. В худшем случае он этим винтиком просто притворялся. Подныривал под Левиафана, как Китеж, и жил там, внизу, своей обыденной жизнью, миловался со своими исторически сложившимися русалками в меру сил и возможностей, которые у него сохранялись после более или менее трудоёмкого притворства: винтик я, винтик, отстаньте.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: