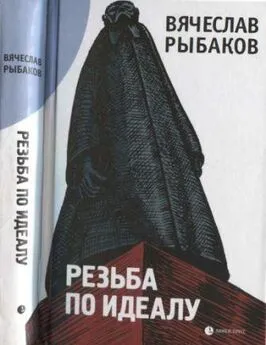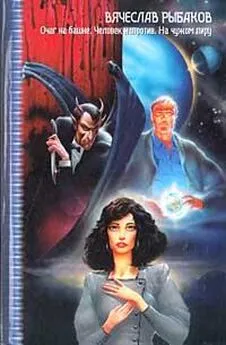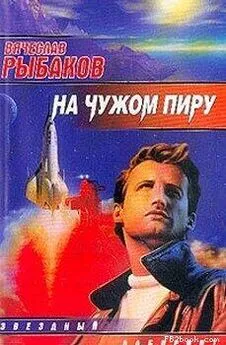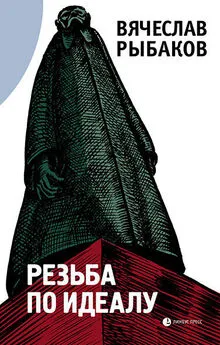Вячеслав Рыбаков - Резьба по Идеалу
- Название:Резьба по Идеалу
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЛИМБУС ПРЕСС ООО «Издательство К. Тублина»
- Год:2018
- Город:СПб.
- ISBN:978-5-8370-0864-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вячеслав Рыбаков - Резьба по Идеалу краткое содержание
Резьба по Идеалу - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Поэтому у нас с Китаем есть такое общее, какого не прописать ни в одном союзном договоре: необходимость всеми силами и способами, вплоть до силовых, защищать свою традиционную идентичность, свои духовные ценности, являющиеся альтернативой ценностям купли-продажи. Сберечь и адаптировать к современности уцелевшие до сей поры остатки своей идеократии. Их нельзя выдумать нарочно, их нельзя взять напрокат из чужой культуры. Их можно найти только в своей собственной глубине. Это как с Тимуром и его командой. Ты и не знаешь, что ты христианин, — но если тебе просто дают.
Почему? А у них дешевле. Дешевизна рабочей силы, сделав умное лицо, предположил я. Да нет, не в этом дело, сказал друг. Просто мы на импортном материале работаем, а у них вся технологическая цепочка своя.
Вот так.
Мы честно старались встроиться в капиталистический общеевропейский дом. Нам так и не даёт покоя идея-фикс стать там своими, стать равноправной частью их мира — который они-то полагают только собственным и не намерены никого туда пускать и ни с кем делить. Ну как же, ведь мы на «Трёх мушкетёрах», на «Копях царя Соломона», на «Острове сокровищ» выросли, для нас Нотр-Дам святей Христа-Спасителя, мы же ваши, буржуинские!
Фиг вам в сумку, русские варвары.
А Китай, встроенный в мировую экономику куда прочнее и плотнее нас, давным-давно член ВТО, тем не менее озаботился тем, чтобы ключевые производства были у него от начала до конца домоткаными.
Кто ж нам виноват?
При таком раскладе заключай с Китаем союз, не заключай с Китаем союза… Люди есть люди, не больше и не меньше. Рачительного и надёжного поддержат, разгильдяя и бестолочь облапошат. Этому правилу верны все цивилизации.
Май 2015
Чужие здесь не могут
Совсем, казалось бы, недавно, но уже много- много лет и событий назад Борис Натанович Стругацкий, всегда остававшийся педагогом и очень переживавший, что я мало пишу, попробовал раскрутить меня на очередную книжку. «Слава, сейчас это такая популярная тема: китайский путь развития для России. Вот написать бы про это. Кто, кроме Вас?»
Под китайским путём обычно понимают широкую экономическую либерализацию при сохранении авторитарной политической системы и идеологического контроля со стороны единственной партии. Борис Натанович вовсе не был сторонником этого пути. Но ему, видимо, было интересно, как бы я это смоделировал. Успехи Китая, даже в самом начале нынешнего века вполне уже неоспоримые, многих всерьёз наводили на мысль, что неплохо бы воспользоваться его опытом реальных и очевидно эффективных реформ.
Я тогда уже соображал достаточно, чтобы ответить: «Я в такое не верю. Не могу себе представить».
Но, к сожалению, ещё недостаточно, чтобы объяснить — почему.
Теперь объяснил бы.
Дело в различиях культурной традиции.
Казалось бы, причём тут культура?
Однако ведь как ни крути, а действительно «кадры решают всё». Ну, многое. Сами же эти кадры, их качество и количество, — не более, чем производные культуры.
Культура возникает не абы как, не в результате философствования высоколобых и их интеллектуальной игры в бисер, но в ответ на весь комплекс внешних и внутренних условий, в которых развивается общество. В дальнейшем она, конечно, начинает жить по своим законам, становясь более или менее независимой от сермяжной прозы жизни, но её базовые параметры формируются именно так. Скажем, в ответ на частые разрушительные наводнения, после каждого из которых масса народу голодает и мрёт, возникают одновременно и умение строить водоотводы и дамбы, и хозяйственные группы, которым это по плечу, и высочайший пиетет всего общества перед инженерами-ирригаторами и их спасительным искусством, равно как перед организаторами общих усилий и их правом на принуждение, их прерогативами в любой момент отрывать людей от их полей и их семей, чтобы заблаговременно предотвращать бедствия и дать всему обществу возможность жить. Не будет этого пиетета — втуне останутся и навыки мастеров, и скопища людей, и груды лопат. Изначально нарабатываемые ценности культуры обеспечивают сцепку и смазку всех вращающихся социальных шестерёнок. Убери эти нематериальные ценности — машинка мигом остановится.
Традиционным структурам и учреждениям люди доверяют (или не доверяют), склонны их уважать, к ним обращаться и стремиться в них работать, или не склонны — но, во всяком случае, они являются объектами искренних переживаний. Неотъемлемыми составляющими реального, привычного социального космоса, лучше или хуже, но — исстари заточенного для совместной, всем миром, борьбы за существование. Заменить их чем-то новым, искусственно придуманным или у кого-то подсмотренным, просто невозможно — к новациям и отношение будет совершенно иное, не как к реальности, которая выше и важней каждого отдельного индивидуума, а как к продукту деятельности этих самых отдельных индивидуумов, придуманному ими для данного момента и неизвестно ещё, насколько разумно и насколько бескорыстно.
К тому же любая нарочитая перемена всегда меняет куда больше, чем надо.
Уже потому хотя бы, что даже в самом лучшем случае инициаторы реформ руководствуются лишь «мечтой прекрасной, ещё неясной», а рядовые реформаторы торопливо делают карьеру, любая реформа чревата перегибанием палок и головокружением от успехов. Традиционно признанным, укоренённым в культуре институтам не надо спешно доказывать свою полезность. Они и без того легитимны. За ними опыт поколений. Над ними не висит дамоклов меч типа «мы тебя вчера придумали — мы тебя завтра и отменим». Нововведениям же надо исступлённо доказывать своё право на существование, демонстрировать, что их ввели не зря. Рядовым исполнителям реформ надо вечно перевыполнять план на двести процентов, чего бы этот план ни касался. Поэтому реформы так часто превращаются в собственную противоположность. Приводят к результатам, прямо противоположным тем, ради которых затевались.
Тогда спасение зависит лишь оттого, сумеет ли здоровая социальная инерция вовремя и в достаточной степени забегание скомпенсировать откатом. А это, в свою очередь, зависит опять-таки от качества и силы этой инерции.
Чуть выше мне довелось сопоставить некоторые элементы китайской и русской традиционной системы ценностей и обнаружить некоторые совпадения. Они весьма значимы. Но, увы, их совершенно недостаточно для того, чтобы китайские общественные институты смогли бы эффективно работать, будучи перенесены на российскую почву. Или наоборот.
Различий тоже хватает, и они принципиальны.
В Китае никогда не было столь присущей нам в последние два с половиной века мировоззренческой неустойчивости и часто вызываемой именно ею исступлённой непримиримости. Подозреваю, что жгут иноверцев только те, кто в глубине души сам в своей вере не уверен. О своей исключительности и избранности говорят именно тогда, когда начинают сильно сомневаться на сей счёт (американские лидеры своими последними высказываниями данную гипотезу очень подтверждают, кстати). Конечно, и самого мирного человека можно довести до белого каления, особенно если та общность людей, с которой он себя отождествляет (приверженцы массового учения, население провинции, народ в целом), терпит подряд несколько провалов, катастроф или просто голодных лет. Тогда в подсознании начинают копошиться и зудеть мировоззренческие сомнения. Так крестьянские восстания, возглавляемые сектантами-фанатиками, раздававшими своему воинству амулеты неуязвимости, порой приводили в Китае даже к сменам династий. Так хунвэйбины брызгали слюной, ломали кости вменяемым старикам и размахивали красными цитатниками, в которых им, как и велела неосознаваемая традиция, тоже виделся некий аналог магических амулетов, дававших всемогущество и абсолютную правоту; они и не подозревали, что, полагая себя прогрессивной молодёжью, людьми будущего, ничем, по сути, не отличаются от самых дремучих последователей какого-нибудь средневекового «Белого Лотоса». Но в целом, при прочих равных, китайцы в этих отношениях куда более спокойны, нежели европейцы.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: