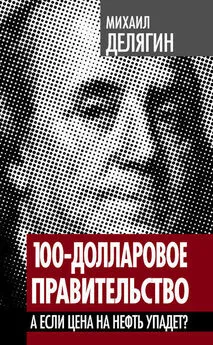Михаил Делягин - Империя в прыжке. Китай изнутри...
- Название:Империя в прыжке. Китай изнутри...
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ООО «ЛитРес», www.litres.ru
- Год:2015
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Делягин - Империя в прыжке. Китай изнутри... краткое содержание
Империя в прыжке. Китай изнутри... - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Ранее государство говорило лишь о дополнении плановой системы рынком, призванным играть вспомогательную роль; с 1992 года формула «строительство социалистической рыночной экономики» делало целью уже рынок. Превращение социализма из смысла существования государства во вспомогательный инструмент рыночной экономики и стало сутью периода развития Китая, на который пришелся последний этап жизни Дэн Сяопина.
5.3.1. Вытеснение социализма рынком на ценностном уровне
Постепенный характер перехода к «социалистическому рынку» проявлялся в том, что никто всерьез и не пытался сразу, с ходу и полностью заменить плановую систему рыночной: после потрясений эпохи Мао такой «большой скачок наоборот» в принципе не мог быть принят даже самыми либеральными слоями общества.
Этому способствовала и традиционная китайская система ценностей, по которой наибольшее почтение в обществе вызывали ученые и чиновники (обычно эти понятия совмещались), находившиеся на верху социальной иерархии. Дальше следовали крестьяне (значительная часть которых находилась, по сути дела, на положении свободных фермеров [120]), дальше ремесленники и лишь на последнем месте находились торговцы.
В ходе страшных бедствий ХХ века социальный статус крестьянства резко снизился; экономические реформы, в свою очередь, резко повысили статус бизнесмена: наряду с учеными и чиновниками, а также военными они оказались на самом верху социальной лестницы. Ниже них стоят люди «свободных профессий», далее — наемные работники, и в самом низу — крестьяне.
Однако, несмотря на кардинальный характер реструктуризации общества, бизнесмены до самого последнего времени не могли навязать ему ни свои ценности, ни свою приоритетность как социальной группы. Причины этого заключались не только в инерционности социальной психологии, но и в сохранении всей реальной полноты власти у государственной бюрократии: каким бы высоким ни был уровень потребления успешных бизнесменов и каким бы стремительным — рост их социального статуса, их судьба все равно всецело зависела от политических решений, принимаемых партией и осуществляемых органами государственного управления.
Государственная политика заключалась в постепенном и жестко контролируемом развитии рыночного сектора «в тени» государственного. По мере его укрепления, наращивания конкуренции и опыта саморегулирования прямые государственное управление и контроль заменялись косвенным государственным стимулированием и мерами макроэкономической политики.
Вместе с тем одной из основных целей реформ был отказ от социализма как метода организации экономики; характерная для него государственная собственность даже на уровне лозунгов (например, «создать на месте государственных предприятий систему современных (конкурентных) предприятий») неявно рассматривалась как архаичная причина неэффективности, являющаяся проблемой, подлежащая устранению.
Использование самого термина «социализм» в провозглашенной в качестве цели государства «социалистической рыночной экономике» отражало лишь необходимость поставить создаваемую рыночную экономику на службу обществу, то есть являлось характеристикой не самой создаваемой новой экономики, а лишь цели, которой она должна была служить.
Очевидность порождаемого этим противоречия не вызывала озабоченности ни у «великого прагматика» Дэн Сяопина, ни у его преемников: они решали текущие проблемы, великодушно оставляя потомкам игры в идеологические бирюльки (как обычно кажется практикам, с головой погруженным в творение нового мира).
К 1992 году основные механизмы экономической реформы были уже сформированы. Практическое их применение очень быстро привело к переносу центра тяжести усилий на организацию внешнеэкономической экспансии.
В 1994 году была отменена множественность курсов юаня, и введение его единого фиксированного курса было существенной девальвацией. В условиях слабой зависимости от импорта и низкого внешнего долга она не привела к существенному повышению цен, но подстегнула экономическое развитие.
Дополнительным фактором, подстегнувшим экспансию, стало успешное подавление инфляции, осуществленное премьером Ли Пэном при помощи жесткой финансовой политики. Побочным следствием стала дефляция (снижение цен) середины 90-х: на внутреннем рынке подстегиваемое государственной политикой предложение многих товаров превысило спрос на них, подавляемый ради сдерживания цен. Широко распространенным явлением стала вынужденная распродажа товаров ниже себестоимости; рентабельность многих производителей упала ниже банковского процента.
Это сделало избыточными многие производственные мощности, опасно снизило инвестиционный рост, болезненно ударило по зарплате.
Новое обострение социальных проблем подорвало огромные надежды, порожденные успехами первого десятилетия реформ, и вызвало опасное для государства разочарование.
Основная часть населения, особенно в деревне, несмотря на все усилия, не могла вырваться из нищеты; в городах росла безработица. На этом фоне особенно болезненно воспринималась резкая поляризация доходов, возникновение «новых богатых», а также бурное и едва ли не повсеместное развитие коррупции. В этих условиях лозунг Дэн Сяопина о «строительстве социализма китайского образца» терял не то что привлекательность, но и просто смысл и оборачивался в глазах все большей части населения в наглядную иллюстрацию отрыва руководства страны от реальности. В качестве пародии на него широко распространился лозунг «Социалистическими методами строить капитализм китайского образца!», который все меньше воспринимался как шутка.
Всемерное наращивание экспорта стало естественным направлением движения избыточной товарной массы и единственным выходом для попавшей в ловушку перепроизводства огромной экономики.
Масштабы структурных изменений были колоссальны: в 1995 году доля сельского (и лесного) хозяйства в ВВП снизилась по сравнению с началом реформ (с 1978 годом) с 28,4 до 20,6 %. Доля промышленности и строительства практически не изменилась, составив 48,4 % по сравнению с 48,6 %, — а вот удельный вес сферы услуг подскочил с 23,0 до 31,1 %.
В структуре занятости доля сельского хозяйства упала с 70,5 до 52,9 %, промышленности и строительства выросла с 17,4 до 22,9 %, сферы услуг увеличилась почти вдвое — с 12,1 до 24,1 %.
Финансовый кризис неразвитых стран 1997–1999 годов бросил китайской экономике новый вызов: резкое сжатие спроса на ряде внешних рынков качественно осложнило ситуацию с перенасыщением рынка внутреннего, окончательно знаменовав собой смещение центра тяжести экономических трудностей Китая из области производства в область сбыта. Укрепление рыночных отношений и их широкое развитие окончательно превратило рынок продавца в рынок покупателя, создав при этом глубочайшую, неискоренимую, несмотря на все последующие попытки китайского государства, зависимость огромной страны от мирового рынка.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: