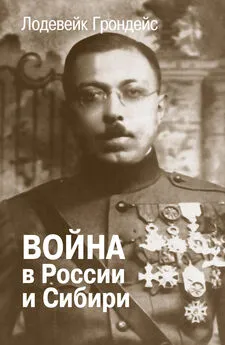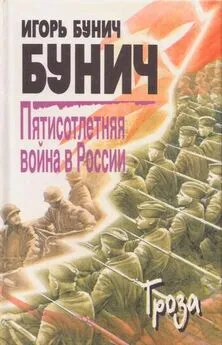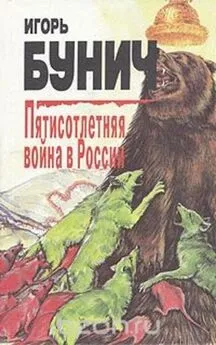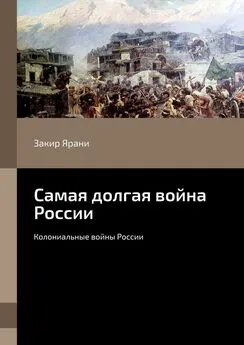Лодевейк Грондейс - Война в России и Сибири
- Название:Война в России и Сибири
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент Политическая энциклопедия
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-8243-2246-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лодевейк Грондейс - Война в России и Сибири краткое содержание
Война в России и Сибири - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Однако подобные неурядицы не привели бы к восстанию целых провинций. Более серьезное недовольство возбуждало поведение банд, которые, будучи на службе у Омского правительства, «восстанавливали» порядок в этих районах. Самые известные отряды грабителей находились под командованием атамана [Б. В.] Анненкова.
Есаул Анненков, казак из Семиречья, хороший командир, человек смелый и грубый, на начальном этапе организации Сибирской армии не получил помощи от знаменитого генерала [А. Н.] Гришина-Алмазова, военного министра Омска. При поддержке частных лиц Анненков требовал смещения и наказания министра. Он сражался вместе с чехами на Уральском фронте, где отличился кровавыми расправами. Деревня Славгород, где красные предательски убили около двадцати офицеров, была им утоплена в крови [365]. Анненков отказался подчиняться чешскому командованию, что было предписано русским войскам указом из Уфы, покинул фронт и вернулся в родной Семипалатинск [366], где его встретили без особой радости.
Он обосновался в Семипалатинске, где им руководили – по слухам – английские офицеры. Ему удалось создать многонациональное войско, куда входили казаки, великороссы, украинцы, венгры, башкиры, пруссы, монголы, татары, китайцы [367]. Под черепом с костями эти солдаты писали: «Бог и атаман» или «Не боимся никого, кроме атамана». Анненков по своей воле творил суд и расправу, и гражданское население района страдало по вине амбициозного атамана.
Под девизом защиты «Семиреченского фронта» от малоопасных красных отрядов войска Анненского пользовались любым предлогом, чтобы появиться в какой-нибудь деревне, ограбить ее и поджечь. Анненков «реквизировал» все подряд: банковские сейфы, наследие русских и союзнических интендантств, дома, драгоценности, сырье. Следующая история свидетельствует о независимости Анненкова от правительства. Анненков занял здание Волжско-Камского банка. Директор отправил жалобу адмиралу и вступил в разговор с атаманом. Тот, польщенный, решил, что конфискует только деньги страховой кассы, предназначенные для заболевших рабочих. На следующий день директор обнаружил совершенно пустое помещение – из банка вынесли все, включая столы и стулья. В полном расстройстве он отправился к Анненкову, тот показал ему гневную депешу адмирала с запретом трогать банк. «Можете опять пожаловаться адмиралу», – заявил он директору.
После систематических ограблений города и района Анненков стал вести себя скромнее: источники иссякали. Союзники предложили ему свое посредничество в переговорах с правительством. Чтобы поддержать фикцию единого командования в Сибири, Омск признал Анненкова и его банду и сделал частью Сибирской армии, ни в чем не изменив его войска. Таким образом, на свое несчастье правительство Омска, слишком слабое, чтобы осуществлять серьезный контроль, взяло на себя ответственность за действия местных банд, не получая от них при этом никакой поддержки при угрозе общенациональному делу [368]. Крестьяне, возмущенные разбойным поведением анненковцев, открыто поднимались против сибирского правительства, которое было вынуждено в таких случаях наводить порядок и поддерживать свой авторитет при помощи регулярных и союзнических войск.
Но и правительственные войска и отряды действовали порой не лучше анненковцев.
Майор чех Бейл в мае 1919 г. во время операции против «красной» банды в районе Красноярска обнаружил отряд [И. Н.] Красильникова в деревне Талая, южнее Каменска, отряд грабил деревню. Одежда, самовары, часы, женские украшения были сложены на подводу. На замечание Бейла командир отряда ответил: «По приказу Колчака». Несколько казаков банды, тронутые рыданиями женщин, тоже хотели положить конец бесчинству и обратились к чехам: «Братья чехи, если вступитесь, мы с вами!» На протяжении четырех часов, какие Бейл пробыл в деревне, он защищал русских от русских.
Поручик Васильев из 42-го Сибирского полка, следователь Фрид и начальник местной милиции поселка Волчиха вошли в сговор, избивали крестьян, «реквизировали» у них деньги, насиловали женщин.
Местные жители были недовольны также чехами, обвиняя их в том, что они истощают край: скупают скот, зерно и сырье [369].
3. Большевистская пропаганда в деревнях
Сибирские крестьяне, особенно в тех районах, где я побывал (между Новониколаевском и Алтаем), – вовсе не большевики. Потомки беглых крепостных или каторжников, они крайне ревниво относятся к собственной независимости и сопротивляются любому принуждению. Они не смогли бы и дня вытерпеть тиранию красных, и многое потеряли бы при их режиме, так они – собственники и нередко крупные собственники. Но большевизм только входит в свою решающую фазу, и местные крестьяне еще не представляют себе, что это такое по существу. Многие деревни, которые поддерживают отряды, действующие против правительства адмирала, стали спонтанно прогонять и красных тогда, когда чехи чистили Транссибирскую дорогу [370].
Крестьянские восстания не означали симпатии к режиму Москвы, и нет сомнения, что, если бы Москва добралась до этих мест, она бы столкнулась с точно такими же бунтами.
Однако «революционные» организации в деревнях складывались благодаря пропагандистам и активистам, приехавшим из России. Омское правительство не имело возможности контролировать те тысячи военнопленных, которые в начале этого года устремились из Германии в Сибирь; по мере того как войска адмирала продвигались вперед, красные «благородно» пропускали этих бывших военнопленных через свои линии. В марте возле Уфы я разговаривал с несколькими такими бывшими военнопленными, и они признались мне, что многие их товарищи не были в Германии. Вместе с возвращающимися военнопленными в Сибирь прибыло множество большевистских агентов, снабженных инструкциями и деньгами, что способствовало их успешной деятельности.
В каждой группе красных партизан, которые действовали в этом районе, среди начальства был, по крайней мере, один командир из приезжих, более умный и целеустремленный, чем местные. В Бийске мимо моего вагона вели группу из 30 крестьян, захваченных чехами в лесу, где они спрятались, собираясь напасть на наш эшелон. При виде этих пленников мне трудно было не почувствовать удовлетворения. Ночью была гроза. Станция не охранялась. Нас бы всех перебили, если бы их не обнаружили. Думаю, что многие из них тоже заплатили бы жизнью за эту операцию. Среди этих злобных, лишенных оружия людей мне не составило труда определить главного. Он и в шаге от смерти сохранял влияние и авторитет.
Приближение Красной армии повысило престиж пропагандистов, которых крестьяне принимали поначалу с недоверием. Желая поквитаться за анненковцев, за чиновников и проч., свободолюбивые крестьяне попадали под влияние «комиссаров», хотя и не собирались связывать с ними свое будущее. Речи молодых и горячих людей, в большинстве своем студентов и студенток, лишенных когда-то права жить в больших городах, сводились к нескольким весьма популярным в начале революции идеям: отмена крупной собственности, автономия коммун, расширение прав земства, создание деревенских комитетов, отмена классовых привилегий и т. д.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: