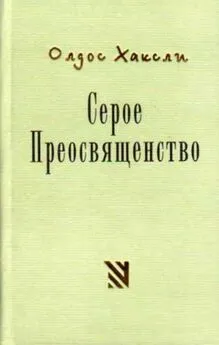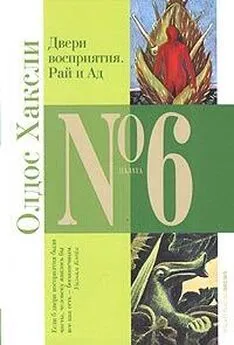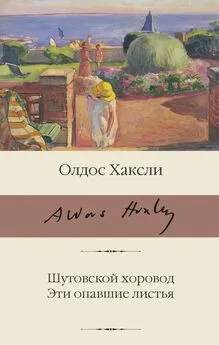Олдос Хаксли - Серое Преосвященство: этюд о религии и политике
- Название:Серое Преосвященство: этюд о религии и политике
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Московская школа политических исследований
- Год:2000
- ISBN:5-93895-004-Х
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Олдос Хаксли - Серое Преосвященство: этюд о религии и политике краткое содержание
Впервые переведенная на русский язык книга замечательного английского писателя Олдоса Хаксли (1894–1963), широко известного у нас в стране своими романами («Желтый Кром», «Контрапункт», «Шутовской хоровод», «О дивный новый мир») и книгами о мистике («Вечная философия», «Врата восприятия»), соединила в себе достоинства и Хаксли-романиста и Хаксли-мыслителя.
Это размышления о судьбе помощника кардинала Ришелье монаха Жозефа, который играл ключевую роль в европейской политике периода Тридцатилетней войны, Политика и мистика; личное благочестие и политическая беспощадность; возвышенные цели и жестокие средства — вот центральные темы этой книги, обращенной ко всем, кто размышляет о европейской истории, о соотношении морали и политики, о совместимости личной нравственности и государственных интересов.
Серое Преосвященство: этюд о религии и политике - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Нужно отметить, что, как и в Регенсбурге, в Париже у отца Жозефа была очень плохая репутация — настолько плохая, что современники ни за что бы не поверили истинным причинам его еженедельных отлучек. Поговаривали, что в то время, когда он якобы гостит у капуцинов или кальварианок, он, на самом деле, переодетый рыщет по городу, шпионя для кардинала или раздавая деньги и инструкции своим агентам — до того тайным и гнусным, что и встречаться-то с ними можно только ночью, на перекрестках или в задних комнатах сомнительных таверн. Вымысел всегда беднее и банальнее, чем искаженные и упрощенные им факты. Воображаемый отец Жозеф, прототип своего тезки, смехотворного злодея в «Сен-Маре» Виньи, просто скучен, тогда как подлинный отец Жозеф проходит по истории семнадцатого века как самая увлекательная загадка.
Хорошо знавшие капуцина люди, разумеется, не были подвержены заблуждениям тогдашней молвы. Вот, например, краткое сообщение, оставленное Аво — надежным свидетелем, часто встречавшимся с отцом Жозефом. Описав его удивительное умение концентрироваться, он продолжает: «От природы и нарочитых стараний он был замкнутым в себе человеком, который, кроме как в случае необходимости, редко давал себе отдых в обычной чувственной жизни и который вдобавок к уставу ордена, казалось, предписал себе еще и собственный устав. И потому, всецело располагая всеми способностями души, избавившись от всех тех отвлечений, которые занимают половину нашей жизни, и регулярно упражняясь в медитации, он имел более правильное суждение о вещах и делах». Вот настоящий отец Жозеф — человек дела, самодисциплиной и привычкой к концентрации достигший сверхчеловеческой работоспособности и проницательности. За рассказом современника о других гранях личности монаха можно обратиться к Дом Тариссу, выдающемуся бенедиктинцу, который часто с ним встречался и который, подобно Аво, изумлялся тому, как человек со столь многими и важными обязанностями умеет сосредотачиваться на любом вопросе, пусть самом ничтожном, словно это единственная его забота. Наряду с умственной сосредоточенностью ему было свойственно «столь великое владение своими страстями, что если в ходе частых нелегких собеседований ему случалось сказать что-либо грубое или резкое, то не успевали еще слова слететь у него с языка, как он уже понижал голос и улыбался». Затем Дом Тарисс переходит к его аскетизму и описывает «recollection incroyable» [59] Невероятную сосредоточенность (франц.)
, с которой он принимал причастие. В самой гуще забот, читаем мы, среди самых неотложных дел, если разговор вдруг обращался к духовным предметам, лицо его просветлялось, и он мог целый час проговорить о молитвенной жизни с «таким удовольствием, чувством и знанием, что легко было принять его за отшельника, погруженного в непрерывную молитву». Но еще сильнее Дом Тарисса поражало то, как монах пекся о монахинях своего ордена. Иностранный министр, второе лицо великой державы, наставлял их в духовной жизни «с таким пылом и знанием, со столь глубокой мистической ученостью, что ему мог бы позавидовать самый сведущий созерцатель и мистик». Эта аскетическая и многотрудная жизнь шла на фоне усугублявшейся народной нищеты, растущей безжалостности правительства. Огромные суммы, которых требовала внешняя политика отца Жозефа и его начальника, кардинала, по грошу выжимались из самых бедных. «Деньги, — заметил Ришелье барским тоном человека, роскошно живущего за чужой счет, — деньги вздор, если мы достигаем наших целей». Заботясь лишь о внешней политике, лишь о большой игре переговоров и войн, которую государи вели за собственную славу и династический престиж, внутри страны он был готов на любые крайности. К высшим сословиям, пока те не дерзали выступать против центральной власти, Ришелье был неизменно и принципиально снисходителен. Вся тяжесть его фискальной тирании ложилась на бедняков — на ремесленников и мелких торговцев в городах, на бессловесные миллионы крестьян. К концу царствования Генриха IV taille — обычная подушная подать — составляла ежегодно около десяти миллионов ливров; к концу правления Ришелье незначительно возросшее население выплачивало правительству в четыре с половиной раза больше. Гнет проводимой кардиналом фискальной политики был настолько тяжек, что ее отчаявшиеся жертвы раз за разом устраивали мятежи, тщетность которых заранее сознавали и от которых ждали лишь виселицу, колесо, клеймо, галеры, а для ушедших от палача — еще большую безжалостность налоговых сборщиков. И тем не менее бунт следовал за бунтом. Бунтовали в Бургундии в 1630 году, в Провансе в 1631, в Лионе и Париже в 1632, в Бордо в 1635, по всем юго-западным провинциям — в 1636, в 1639 — в Нормандии.
Ришелье высылал войска для усмирения беспорядков и объявлял всё новые повышения налогов. Он сочувствовал бедным; но, как он философски писал, «один Бог может творить из ничего, и изъятия, нетерпимые по своей природе, извиняются необходимостями войны». Необходима ли сама война, он не давал себе труда задуматься. Он считал самоочевидным, что необходима. За восточной границей Франции положение было, конечно же, несравненно тяжелее. В 1633 году в Париже вышла avec Privilege du Roy [60] С королевской привилегией (франц.)
серия гравюр, открывающаяся титульным листом со следующим текстом: Les Miseres et les Malheurs de la Guerre, representes par Jacques Callot, Noble Lorrain, et mis en lumiere par Israel, son ami [61]
. Подобно «Los Desastres de la Guerra» [62] Бедствиям войны (исп.)
Гойи, «Miseres et Malheurs» Калло — репортаж очевидца. И та и другая серия — портрет войны, написанный с натуры. Но в первом случае его писал обладатель страстного темперамента и непревзойденного дара передавать негодование и жалость в графических образах, а во втором — рисовальщик, чей талант состоял в полной эмоциональной отрешенности, которая парадоксально сочеталась с даром к реалистическому воспроизведению действительности во всех ее аспектах — страшном и приятном, трагическом и фарсовом. Как художник Гойя, несомненно, гораздо выше; но в искусстве Калло есть что-то такое, из-за чего тянет снова и снова возвращаться к его гравюрам, подолгу рассматривать эти гипнотические и загадочные, вызывающие то улыбку, то страх композиции. Эти маленькие, многолюдные, с тщательно выписанными деталями, но идеально построенные и скомпонованные рисунки — вещь единственная в своем роде; их предмет — флорентийские маскарады и праздники, персонажи комедии дель арте, ярмарки и карнавалы, солдаты в парадном строю, премудрости осадного искусства, ужасы и зверства войны. Единственная в своем роде — потому что ни один другой художник не приступал к своей теме в духе столь полного беспристрастия, с такой глубокой невозмутимостью, со столь неколебимой пирроновой ataraxia [63] Безмятежностью (греч.)
. Искусство Калло — эстетический аналог поведения Франциска Сальского, о котором говорили, что ему безразлично, находится ли он в состоянии благодати или богооставленности. Но делать из искусства Калло вывод, будто он был равнодушен к изображенным сценам, конечно же, нельзя. Само его решение изобразить бедствия войны убедительно свидетельствует, что он этими бедствиями терзался. Невозмутимость Калло — в его стиле; а стиль — отнюдь не всегда и отнюдь не весь человек. В искусстве искренность есть функция таланта. Человек без таланта не способен «честно» выражать свои чувства и мысли; ибо его мазня или вирши окажутся в полном разладе с тем, что творится у него в душе. С другой стороны, наследственность и выучка иногда наделяют человека талантом определенного рода, позволяющим ему выражать один разряд идей, но непригодным для выражения других. По своей сути сухая и изящная точность стиля Калло лучше всего подходила для декоративных или видовых сюжетов. Но он предпочел пустить свой талант на изображение бешеного веселья и еще более бешеного ужаса — дурачеств Франкатриппы и компании в карнавальных масках и пестрых платьях, зверств небывало жестокой войны. Результат получился неизъяснимо странный. Словно Джейн Остен изложила содержание «По ком звонит колокол» стилем «Эммы». Декоративно, бесстрастно, с неизменной заботой о мельчайших деталях и формальном изяществе, сперва он рисует красивые приготовления к войне: войска в парадном строю под штандартами, — затем саму кампанию: сражения и — пространнее и подробнее — страдания мирного населения от рук солдат-мародеров, беспощадные расправы наводящих дисциплину командиров. Перебирая гравюры, мы следим за рассказом художника о грабежах, убийствах, поджогах, изнасилованиях, пытках, казнях. Крошечные фигурки в широких шляпах, мешковатых штанах, кожаных сапогах с отвернутым ниже колена мягким голенищем застыли в разгар самых жестоких занятий — но неизменно (благодаря предельно нейтральной манере Калло) сохраняя вид танцоров, принявших балетную позу. На первом листе изображен разгром трактира. На другом солдаты занимаются разбоем. Третий изображает зал большого дома; полдюжины негодяев взламывают шкафы и сундуки; на заднем плане еще один повалил на пол хозяйку, а его товарищ, даже не сняв шляпу, готовится ее изнасиловать; правая группа стоит у костра из сломанной мебели, над которым вниз головой подвешен хозяин дома; рядом на полу туго связанный сидит его то ли сын, то ли верный слуга — ноги ему лижет пламя, к спине приставлены мечи мучителей. Сцена ужасная; но стиль Калло дистиллирует ужас в хореографический символ ужаса. На следующей гравюре мы видим горящую церковь и солдат, грузящих на телегу церковную утварь, а из соседнего монастыря, говоря словами рифмованной подписи, какими сопровождаются эстампы, — другие солдаты
Интервал:
Закладка: