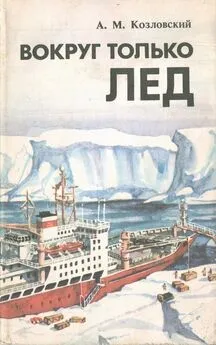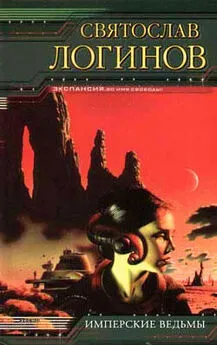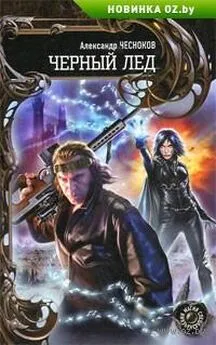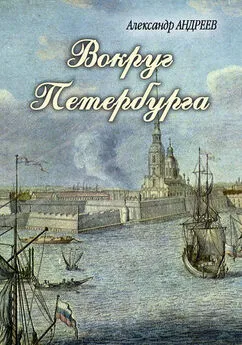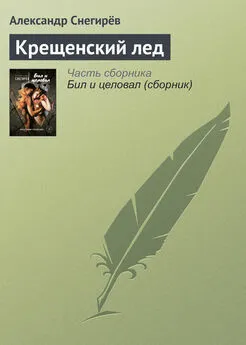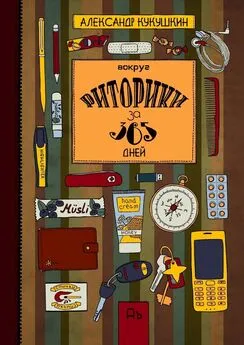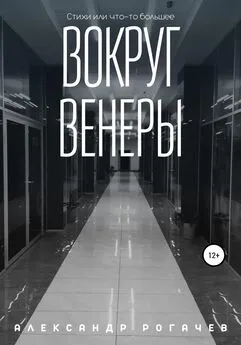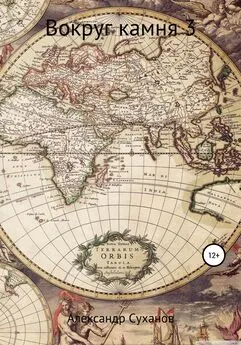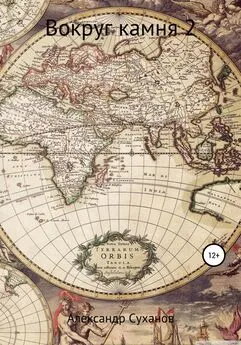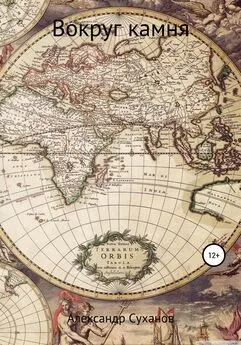Александр Козловский - Вокруг только лед
- Название:Вокруг только лед
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Гидрометеоиздат
- Год:1988
- Город:Ленинград
- ISBN:5-286-00079-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Козловский - Вокруг только лед краткое содержание
Для широкого круга читателей. * * *
* * *
Вокруг только лед - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Пятнадцатого июня рандеву состоялось, и капитан «Павла Корчагина» Алексей Гуреев, уже не раз ходивший в Антарктику, пытался в считанные часы нашего свидания рассказать о том, что сам он видел, что здесь за лед, словом, передать «из рук в руки» всю информацию, которая могла нам пригодиться. Какой здесь лед и, как говорят ледокольщики, до какого рубежа он ходовой, интересовало и нас больше всего. «Вы дойдете до 69°. Нет, я все понимаю, у вас 22 000 лошадиных сил, наука, вертолет, но к югу от 69° много не пройдете. Ну да сами увидите, вы попробуйте – возможно, повезет, но лед там – поля сморози, глазом не охватить, снегу больше метра и стоит все мертво, щелей не видать. И зима ведь в разгаре, здесь-то на кромке до минус двадцати бывает, а туда я пытался пробиться на короткое плечо вертолета – до сорока градусов мороз стоял».
Дешифровка снимков ИСЗ действительно подтверждала, что к югу от 70° начинают попадаться многолетние льды. Но в секторе 140-160° з. д. их меньше всего. Их основное ядро располагалось ближе к центральной части моря Росса, западнее 160° з. д. И капитан ледокола Геннадий Антохин и начальник экспедиции Артур Чилингаров неоднократно пытались в докладах Андрея Проворкина уловить хоть тень сомнения именно в таком распределении льдов. Мера их ответственности за успех нашего предприятия была очень велика. Но Андрей пожимал плечами и говорил, тыча в снимок желтым от химикатов пальцем: «Да нет их (старых льдов – А. К.) здесь. Вы же видите – вот она где, белая рябь, начинается, а здесь все серенькое да черненькое – льды молодые… Ну попадется, конечно, пара полей посолидней, спутник тоже всего увидеть не может».
Распрощавшись с «Павлом Корчагиным», капитан «Владивостока» проложил курс прямо на «Михаила Сомова», и мы пошли кратчайшим путем – напрямую почти по 150-му меридиану.
По мере продвижения в глубь массива лед, конечно, «тяжелел»: увеличивалась толщина, заснеженность, стали появляться всторошенные гряды на стыках полей, которые – пока – рассыпались под натиском ледокола… И в совокупности все это стало постепенно сдерживать нас. В особенности ночью, когда приходилось читать лед и выбирать путь через всторошенные участки только по экрану локатора. Виртуозно это делал сам капитан. Даже когда вся его вахта приходилась на проводку вслепую, по локатору, ледокол, будто ведомый волшебной палочкой, безошибочно находил лазейки, покрытые молодым льдом, и ни разу не застревал на неподатливых грядах торосов.
Однако скорость неуклонно падала: 17 июня мы прошли 180 миль, на следующие сутки – в два раза меньше. Тем не менее, до 70° ю. ш. тактика движения «напролом», по кратчайшему пути, себя еще оправдывала. Потом мы стали застревать все чаще. Подводили всторошенные участки. Ледокол заклинивался на них и сидел иногда по нескольку часов. От 70° до «Михаила Сомова» оставалось еще 300 миль. Если мы будем проходить в сутки по 60 – а как-то, несмотря на наши заминки, не верилось, что мы можем застрять надолго, – и то эти 300 миль можно пройти за пять-шесть дней. Эта оптимистическая арифметика, особенно произносимая на ходовом мостике вслух, выводила из себя капитана и он кричал на меня: «Да вы что?.. Стучите сейчас же по деревяшке!»
Девятнадцатого июня мы «достукались». Едва перевалив за 73° ю. ш., уселись так плотно, что сидели без движения почти сутки. Не помогало ничего. Перекачка балласта, «полный назад», заводка ледовых якорей – словом, весь арсенал ледокольных приемов, чтобы вырваться из ледовых тисков. Настроение было прегнуснейшее. Всех, находившихся на мостике, мучила мысль: а что если и мы, как «Сомов»… То одному, то другому казалось, будто трещины, что разбегались от борта через лед, стали пошире. И верили и не верили. Ведь не раз буквально галлюцинации начинались: то покажется, что нос ледокола заходил, то – и вовсе чуть назад сдернулся… Увы, зыбь до нас не доходила, и только хороший циклон мог пошевелить массив, но как назло – штиль, звезды, сияющие под 30-градусным морозом… В ледовые карты Андрея Проворкина без конца глядели, пытаясь найти в них надежду, спасение… Еще в Ленинграде, да и здесь, пока шли напролом, привлекали наше внимание зоны разломов и трещин в массиве, которые отчетливо просматривались на его южной периферии. Ближайшие из них находились в 15-20 милях от ледокола. Но пока мы шли, до них «руки не доходили», а вот теперь, когда застряли, хорошо бы на них выскочить. Девятнадцатого июля у нас состоялся первый полет на ледовую авиаразведку, и хотя Андрей уверял, что ширина этих разломов, если судить по разрешающей способности ИСЗ, вполне позволяет свободно двигаться ледоколу, хотелось все же убедиться в этом собственными глазами. Светлого времени всего около четырех часов. Нужно осмотреть засветло окрестности и, если где-то рядом с нами есть разломы на стыках полей, выводить туда ледокол. Ледокольный гидролог Анатолий Москалев оказался своего рода универсалом. Мало того, что он много работал в Арктике, он еще дважды с судами Дальневосточного пароходства ходил в море Уэдделла, то есть был знаком и со льдами Антарктики. Его знания и опыт в нашем случае были особенно ценными, так как он уже летал над льдами ночью. Я этим похвастаться не мог и ночных полетов побаивался – все ли увижу, так ли пойму.
Борис Лялин, командир МИ-8, мой старый знакомый еще по 19-й САЭ. И, конечно, его антарктический опыт, тем более опыт работы в ледовой авиаразведке, должен был помочь нам. Первый взлет и первый взгляд на льды сверху должен был многое определить. Смотрели на нас с надеждой. Наши впечатления от первых полетов в глубине ледяного массива наиболее точно выразил Анатолий Москалев в парадоксальной фразе: «Лед неходовой, но идти можно». Первая ее часть характеризовала общее впечатление от добротно заснеженной и всторошенной штукатурки, укрывавшей поверхность океана в пределах видимости. Каждая миля, каждый кабельтов пути при тактике движения напролом мог даваться только работой двигателей ледокола на максимальном режиме, и, думаю, наше продвижение за сутки исчислялось бы в лучшем случае десятком миль. А вот если идти по стыкам полей, где нет-нет да просматриваются отдельные полыньи, разводья и трещины, отделенные друг от друга перемычками, то здесь наши шансы па успешное и быстрое продвижение к югу резко возрастали. Некоторые разводья вдоль окраины полей вообще представляли собой каналы чистой воды шириною до нескольких десятков метров и протяженностью несколько миль. Правда, в том районе, где мы все еще продолжали стоять без движения заклиненные во льдах, эти заманчивые зоны разводий были ориентированы преимущественно в широтном направлении, но кое-где, рассекая массив безнадежно тяжелых льдов параллельными каналами, они отделялись друг от друга сравнительно проходимыми перемычками. Форсируя их, можно было наверняка уйти далеко на юг.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: