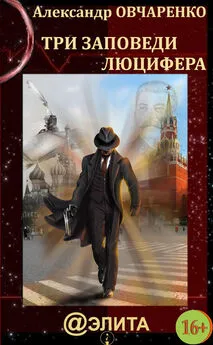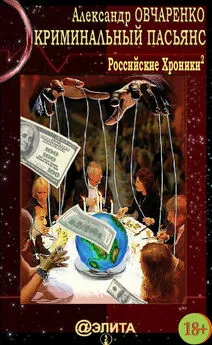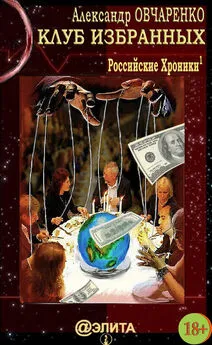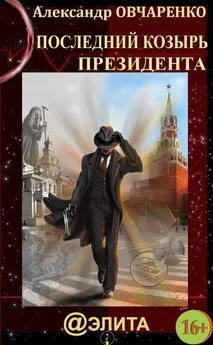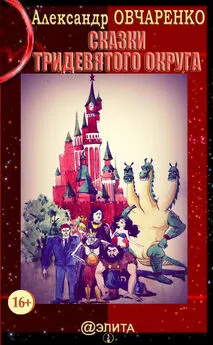Александр Овчаренко - В кругу Леонида Леонова. Из записок 1968-1988-х годов [calibre]
- Название:В кругу Леонида Леонова. Из записок 1968-1988-х годов [calibre]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Московский интеллектуально-деловой клуб
- Год:2002
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Овчаренко - В кругу Леонида Леонова. Из записок 1968-1988-х годов [calibre] краткое содержание
В кругу Леонида Леонова. Из записок 1968-1988-х годов [calibre] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Снова говорим о современной литературе, о Солженицыне.
— Не обидели мы его чем-нибудь? Я спросил у П.Н. Демичева — не допустили ли в отношении Солженицына небрежности? Он ответил, что беседовал с ним будто мирно и обнадеживающе.
— В литературе не должно быть запретных тем. Кто-то думает, что народ можно заставить вычеркнуть из своей памяти, из своей истории то или иное десятилетие. Мы должны говорить безбоязненно обо всем. Я в своем романе касаюсь самых острых проблем нашего времени... Но в «Раковом корпусе» — страшная тема: люди гниют и, чтобы не задохнуться, чтобы как-то уравновесить страшное, нужно широкое и очень глубокое небо. Без этого человека только можно удушить, а это не дело писателя. Без нас в мире человека есть кому душить. У нас же совсем другая задача: помочь ему разгадать и себя, и мир. Я уверен, что этот большой смысл может быть раскрыт, выражен каким-то золотым иероглифом. Разгадать его стремился Л. Толстой, Достоевский, Чехов. Его можно разгадать. Думаете, Горький разгадал? Да, он принимал идею коммунизма, как принимаем мы с вами. Но он чувствовал, что она лишь открывает путь к разгадке этого иероглифа. И он лихорадочно листал книгу за книгой, надеясь найти тот специфический ответ, который от него ожидается как от художника. Именно в поиске этого иероглифа подлинный Достоевский, перехлестывающий все идеи и идеалы, которые маячат в его творчестве. Он чувствует, и мы чувствуем, что эта энергия, эта страсть, эта устремленность порождаются чем-то большим во имя чего-то большего. Для меня искусство есть квадратный корень, выведенный из всех наших знаний о мире и помноженный на минус единицу, под которой понимайте талант, интуицию, непосредственность видения мира и еще многое другое. Подсознание тоже не исключается, ибо оно есть то, чего мы пока не разгадали, как вы правильно где-то написали.
И стал рассказывать о снах, предчувствиях, сетовал, что психологи наши ленивы и не любопытны. Вспомнил, как жил в годы войны.
— Осенью 1941 года получил, после долгих бедствий, первый, после запрещения «Метели», гонорар, 16 тысяч. Пришел в банк и попросил, чтобы 8 тысяч у меня приняли в фонд обороны. После долгих выяснений приняли. Три тысячи выслал семье в Чистополь. Полторы забрал Панферов, на остальные купил подарков и решил 7 октября выехать в Чистополь. Поехал и — был отрезан от Москвы. Квартиры там не нашлось. Снял полуподвальное помещение бывшего квасного заведения. В деревянном полу огромные щели, из которых выглядывали рыжеватые крысы. Одна особенно назойливо и ехидно следила глазом за тем, как я, скрючившись, писал «Нашествие». Вот откуда в пьесе мышь — помните? Холод и нужда, но написал.
17 февраля 1970 г.
По телефону сообщил, что читает «В круге первом». «Вернее, перечитываю. Очень трудночитаемое произведение. Откуда у Солженицына такое знание подробностей? Выдумывает? У него Сталин — рыжий. А я видел его черным. Многое выдумывает? У меня в «Русском лесе» есть фраза, что «все правдоподобно о неизвестном».
20 февраля 1970 г.
Разговор по телефону:
— Очень плохо чувствую себя. Есть вещи, являющиеся показателем духовного здоровья государства. Литература среди них стоит на первом месте. Если сейчас в литературе так мало светлого — это должно обеспокоить государство. Между тем, как плохо к нам относятся. Подумать только, два года тому назад я сделал доклад о Горьком, и до сих пор его не могут выпустить. Книгу бы пьес отдельным изданием? Ничего нет!
4 марта 1970 г.
На мой вопрос, прочел ли он «В круге первом», ответил:
— Дочитываю. Солженицын не умеет вычеркивать. Между тем, вычеркивание — могучий усилитель таланта.
— Нет отбора?
— Да, он дает все, с сукровицей. Он не знает, что художники не пользуются черной краской. И не знает, ниже чего искусство не может идти. Вот, например, слово «труп» — противопоказано. Ниже этого слова уже не может быть, разве что «гумус». И только Пушкин соблюдал художественную меру его употребления: «Как труп в пустыне я лежал...» У Л. Толстого же «Живой труп» безвкусно. «Труп» - это чисто полицейский термин.
— Все думаю, не допустили ли мы ошибки с Солженицыным. А в искусстве чего-то ему очень не хватает.
— Души. Широты души. Только человек с широкой душой может подняться над этим всем, как Достоевский. Что-то в нем искусственное. Язык, например, перенасыщен знанием словарей, а не народной речи. Патриотизм ущербный какой-то. В первом талантливом рассказе о русском человеке Иване Денисовиче униженность доведена до предела, кафкианство будто. Что, Андрею Соколову было легче в плену у немцев, чем Ивану Денисовичу? Однако шолоховский герой сохранил человеческое достоинство, а солженицынский — только умение выживать, стать насекомым, но выжить.
— Согласен, — сказал Л.М., — Достоевский не снимал горечи, ничего не утаил, но не мучил по-садистски. Человеку с широкой душой немного надо тепла, чтоб отогреть душу. А этого ничем не согреешь. Заметьте, он не умеет смотреть на свое прошлое как материал для художественного произведения. Он в плену у него, не может подняться над ним.
— Это вы верно. Он не умеет переплавить это в слитки искусства, отобрать, эстетически освоить.
— О текстологии... У меня в романе «Соть» было: «Великие титаны, вроде Бруно, Галилея, великие мертвецы правят нами сильнее живых», а в тех изданиях было набрано «мерзавцы».
13 марта 1970 г.
Была очень длительная беседа о сем, о том... На мое замечание, что надо бы ему вмешаться в дела СП, ответил категорическим отказом:
— Я всегда боялся оставлять свою чернильницу. Им только и нужно, чтобы я влез в дрязги и потерял способность писать. А там они сильнее меня.
— Кто — они?
— Не только толстомордые литераторы. Болят раны, нанесенные мне в прошлом. В 1939 году, когда у меня в один день состоялись две премьеры, — в МХАТе и в Малом театре — «Волк» и «Половчанские сады», это вызвало взрыв бешеной зависти. В. Катаев выступил в «Крокодиле» с издевательским фельетоном. Тучи сгустились... Я тогда дружил с Фадеевым. Вообще он был человек сложный. Идем с ним со второго съезда. Он говорит: «Знаешь, Леня, печатать твою “Дорогу на Океан” нельзя». — «Почему?» «У тебя там про аборты, мрачно, дверь черная». «Но мне жить не на что, я взял аванс и половину потратил. Может быть, ты позвонишь, чтоб хоть не требовали возвратить аванс?» — «Ну, что ты, Леня, так расстраиваешься?» И полез целоваться, говоря: «А ты все же подумай». — «Так ты, может, сам там исправишь?» И он позволил себе сделать в моем романе вычерк. Такое ведь не забывается и не прощается. Но были у него и открытость, и человечность, и честность. Однажды, напившись, он со слезами на глазах сказал Пастернаку: «Боря, ведь там никто и ничего не понимает». Как-то я, уже при Хрущеве, спросил его: «Что же, Саша, опять будем кричать “ура!”? Помнишь, когда следователь бил револьвером Постышева, мы пели, что «живем мы весело сегодня». Он, с незабываемой тоской глядя куда-то, поверх голов проходивших мимо нас людей, сказал: «Сажали, сажали...».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Александр Овчаренко - В кругу Леонида Леонова. Из записок 1968-1988-х годов [calibre]](/books/1150493/aleksandr-ovcharenko-v-krugu-leonida-leonova-iz-zapisok-1968-1988-h-godov-calibre.webp)