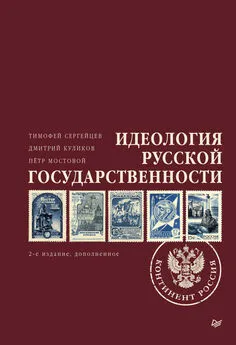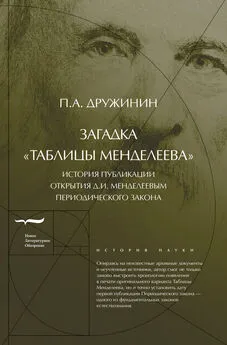Петр Дружинин - Идеология и филология. Т. 3. Дело Константина Азадовского. Документальное исследование
- Название:Идеология и филология. Т. 3. Дело Константина Азадовского. Документальное исследование
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЛитагентНЛОf0e10de7-81db-11e4-b821-0025905a0812
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0458-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Петр Дружинин - Идеология и филология. Т. 3. Дело Константина Азадовского. Документальное исследование краткое содержание
Ленинград, декабрь 1980 года. Накануне Дня чекиста известному ученому, заведующему кафедрой иностранных языков, и его жене подбрасывают наркотики. Усилия коллег и друзей – от академиков Михаила Алексеева и Дмитрия Лихачева в Ленинграде до Иосифа Бродского и Сергея Довлатова в США – не в силах повлиять на трагический ход событий; все решено заранее. Мирная жизнь и плодотворная работа филолога-германиста обрываются, уступая место рукотворному аду: фиктивное следствие, камера в Крестах, фальсификация материалов уголовного дела, обвинительный приговор, 10 тысяч километров этапа на Колыму, жизнь в сусуманской колонии, попытка самоубийства, тюремная больница, освобождение, долгие годы упорной борьбы за реабилитацию…
Новая книга московского историка Петра Дружинина, продолжающего свое масштабное исследование о взаимоотношениях советской идеологии и гуманитарной науки, построена на множестве архивных документов, материалах КГБ СССР, свидетельствах современников. Автору удалось воссоздать беспощадную и одновременно захватывающую картину общественной жизни на закате советской эпохи и показать – через драматическую судьбу главного героя – работу советской правоохранительной системы, основанной на беззаконии и произволе.
Идеология и филология. Т. 3. Дело Константина Азадовского. Документальное исследование - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
И в старом, и в новом Уголовном кодексе есть глава «Преступления против правосудия». Наименее действующая глава законов. На мой взгляд, фундамент тотальной империи спецслужб – в нарушении принципа индивидуальности наказания. Когда ты лично отвечаешь за преступление. Верность уставу – всего лишь отговорка. У каждого был выбор: написать рапорт, когда тебе предлагали сделать гадость, и жить по совести или соучаствовать в преступлении против своего народа.
Эстафету подхватила пресса Петербурга. 27 октября 1994 года в одной из самых популярных газет города – «Вечернем Петербурге» – появился очерк Нины Катерли под выразительным названием «Расправа», где с еще большим эмоциональным напором рассказывалась история Азадовских. Отталкиваясь от статьи Щекочихина и двигаясь по проложенному им следу, автор в то же время не скидывает со счетов и бытовую составляющую дела Азадовского:
Кто-то совершенно сознательно принял решение посадить двух ни в чем не повинных людей исключительно из собственных карьерных соображений. И еще, может быть, из личной неприязни к таким, как Азадовский, – слишком образованным и независимым.
Сермяжная правда состоит в том, что ведь совершенно незначительные (по меркам того времени, разумеется) причины позволили сломать людям жизни.
Посмотрим еще раз на протокол обыска: ну что такое книги Пильняка и Цветаевой? Какая в этом «клевета на советский строй»? А изъятые фотографии – «Блок в гробу», «Клюев у гроба Есенина», «труп Есенина», «труп Маяковского»… Это и есть «идеологическая диверсия»?
Другое дело – активное и постоянное общение с иностранцами, свободное владение несколькими иностранными языками (при этом без всякой пользы для спецслужб), демонстративный отказ от сотрудничества, машина «Жигули», дубленка, зарплата 384 рубля… Всего этого было вполне достаточно, даже более чем…
Важен в данном случае и «комментарий юриста», который дал для того же номера газеты «Вечерний Петербург» председатель Российского комитета адвокатов в защиту прав человека, выдающийся российский адвокат Юрий Маркович Шмидт (1937–2013):
Дело Азадовского делали руками милиции, потому что не могли «вытянуть» на 70 ст. Это был тогда один из способов убирать неугодных. У КГБ всегда находилась ширма для прикрытия – ОВИР, паспортный отдел – если нужно было, например, отказать в прописке бывшему политзэку. Когда на процессе нежелателен был тот или иной адвокат, председатель коллегии адвокатов, получивший соответствующее указание, просто отказывал ему в подписании ордера на защиту. Суды тоже были послушной игрушкой КГБ. А приказы КГБ исполнялись беспрекословно. И для милиции, и для суда, и для прокуратуры КГБ был вышестоящей организацией. Ведь начальник УКГБ являлся членом бюро обкома, а начальник ГУВД, например, всего лишь рядовым членом обкома. Председатель же горсуда был всего-навсего членом ревизионной комиссии. Так что по партийной иерархии все они обязаны были подчиняться КГБ.
А дело Азадовского осуществлялось по отработанному сценарию – как и дело Рогинского, Владимира Борисова и др. К Борисову на дачу шли с обыском, рассчитывая найти «ГУЛАГ», а не нашли ничего, кроме ржавых патронов времен войны, неизвестно кем и когда выкопанных из земли. И с досады, просто чтобы навредить Борисову, посадили на три года его брата, Олега. Ну а самого Владимира все равно позднее отправили в «психушку», а оттуда в наручниках выслали за границу. Другое дело, что и Вл. Борисов, и А. Рогинский были правозащитниками, Азадовский же политикой не занимался, вот в чем разница. И доказать его причастность к антисоветской деятельности КГБ не смог даже для самого себя. И тогда была организована провокация, сфальсифицированы улики. А это даже по законам того времени было преступлением. По сегодняшнему законодательству это ст. 176 УК России – «Привлечение заведомо невиновного лица к уголовной ответственности». Часть 2 этой статьи, где речь идет о том же деянии, соединенном с «искусственным созданием доказательств обвинения», предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.
Попытки наказать виновных
Поскольку привлечение Азадовских к уголовной ответственности по фальсифицированным доказательствам, как свидетельствует Ю. Шмидт, само по себе являлось уголовным преступлением, и Азадовский, и петербургские общественные организации стали требовать от государства расследования этих обстоятельств и их правовой оценки.
26 августа 1994 года, когда у Азадовского на руках уже были копии документов КГБ, он обращается в Комиссию по правам человека при Президенте России со следующим заявлением:
…В процессе изучения и анализа двух уголовных дел, моего и С.И. Лепилиной (ныне – Азадовской), Комиссией по реабилитации жертв политических репрессий ВС РФ и впоследствии Генеральной прокуратурой РФ были получены сохранившиеся архивные документы бывших КГБ СССР и УКГБ СССР по Ленинградской области. Из этих материалов явствует, что в сентябре 1978 г. сотрудниками ленинградского КГБ на меня было заведено дело оперативной разработки. Подозревая меня – сразу же подчеркну, что это было совершенно необоснованно, – не более не менее как в измене родине, сотрудники КГБ держали меня под постоянным контролем, расспрашивали обо мне моих знакомых, прослушивали мою квартиру и т. д. Не получив материалов, подтверждающих мою «изменническую» деятельность, КГБ изменил первоначальную формулировку на другую: «антисоветская агитация и пропаганда».
Поскольку «агитация и пропаганда» также не подтвердились, руководством бывшей 5 службы КГБ ЛО было принято решение привлечь меня, а заодно и мою жену, С.И. Лепилину, к уголовной ответственности… Для реализации этого предприятия в среду знакомых Лепилиной был внедрен агент-иностранец, выдававший себя за гражданина Испании. 18 декабря 1980 г. он передал Лепилиной обманным путем (под видом лекарства) пакет, в котором оказалась анаша. На этом основании Лепилина и была осуждена.
Арест Лепилиной был использован как повод для обыска у меня в квартире. Накануне обыска (уже после задержания Лепилиной) ко мне в квартиру обманным путем проник агент КГБ: он и подбросил мне на полку с книгами пакет, «обнаруженный» на другой день во время обыска, который проводили сотрудники милиции совместно с сотрудниками КГБ, прикрывшимися служебными удостоверениями сотрудников милиции. Именно эта «находка» послужила основанием для обвинительного приговора…
Президиум горсуда Санкт-Петербурга подчеркивает, что «решение о реализации оперативной разработки на Азадовского путем привлечения к уголовной ответственности было принято руководством подразделения УКГБ без достаточных оснований, при отсутствии каких-либо данных».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
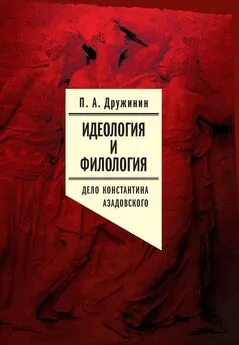


![Петр Дружинин - Загадка «Таблицы Менделеева» [История публикации открытия Д.И.Менделеевым Периодического закона]](/books/1063991/petr-druzhinin-zagadka-tablicy-mendeleeva-istori.webp)