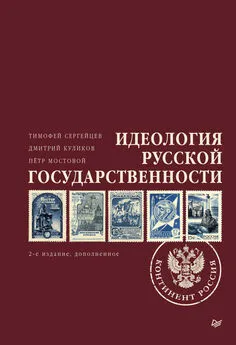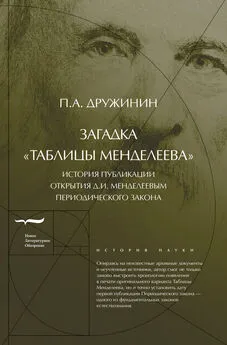Петр Дружинин - Идеология и филология. Т. 3. Дело Константина Азадовского. Документальное исследование
- Название:Идеология и филология. Т. 3. Дело Константина Азадовского. Документальное исследование
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЛитагентНЛОf0e10de7-81db-11e4-b821-0025905a0812
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0458-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Петр Дружинин - Идеология и филология. Т. 3. Дело Константина Азадовского. Документальное исследование краткое содержание
Ленинград, декабрь 1980 года. Накануне Дня чекиста известному ученому, заведующему кафедрой иностранных языков, и его жене подбрасывают наркотики. Усилия коллег и друзей – от академиков Михаила Алексеева и Дмитрия Лихачева в Ленинграде до Иосифа Бродского и Сергея Довлатова в США – не в силах повлиять на трагический ход событий; все решено заранее. Мирная жизнь и плодотворная работа филолога-германиста обрываются, уступая место рукотворному аду: фиктивное следствие, камера в Крестах, фальсификация материалов уголовного дела, обвинительный приговор, 10 тысяч километров этапа на Колыму, жизнь в сусуманской колонии, попытка самоубийства, тюремная больница, освобождение, долгие годы упорной борьбы за реабилитацию…
Новая книга московского историка Петра Дружинина, продолжающего свое масштабное исследование о взаимоотношениях советской идеологии и гуманитарной науки, построена на множестве архивных документов, материалах КГБ СССР, свидетельствах современников. Автору удалось воссоздать беспощадную и одновременно захватывающую картину общественной жизни на закате советской эпохи и показать – через драматическую судьбу главного героя – работу советской правоохранительной системы, основанной на беззаконии и произволе.
Идеология и филология. Т. 3. Дело Константина Азадовского. Документальное исследование - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
И, безусловно, обнаружение и копирование Светланой этих материалов своего уголовного дела воспринимается как подарок судьбы. И для Юрия Щекочихина, который не побоялся предать их гласности. И для Азадовских – ведь именно с помощью этих документов им удалось добиться полного оправдания, а также узнать все скрытые пружины своего дела. Мало кому выпадает такой случай…
«Ряженые»
Теперь рассмотрим то, о чем говорит и председатель КГБ СССР, – те самые формы и методы работы органов госбезопасности, которые «могут вызвать неоднозначное и притом нередко негативное восприятие».
Юрий Щекочихин не стал медлить. Как только документы оказались у него в руках, он принялся готовить вторую публикацию. 24 сентября 1994 года в «Литературной газете» появилась его статья «Ряженые. Хроника одной провокации: 1980–1994», посвященная подлинным обстоятельствам дела. Материал занял целую полосу. Нужно учитывать, что в 1993 году Щекочихин имел уже не просто широкую известность, а всенародную славу; всем памятны были, в частности, его беседы с Горбачевым в 1991 году…
И эта популярность Щекочихина способствовала тому, что его статья, описывающая события недавнего прошлого, стала как бы символом победы человека над спецслужбами. Каждый, кто читал содержание документов КГБ, мог видеть, как готовилась и осуществлялась провокация против Азадовского и Лепилиной, и понимал, как много лет они мучились, не имея возможности доказать свою правоту и получая из года в год лживые отписки… Прямо как волшебник из цилиндра, Щекочихин предъявил миру доказательства того, что Азадовские ни в чем не виновны, что против них была разыграна такая комбинация, что сам черт бы сделал не хуже.
С чертом тягаться невозможно, но иногда происходят чудеса, когда чертовщина, державшая пятнадцать лет в своей круговерти Константина и Светлану, вдруг по мановению волшебника исчезает…
Описывая чекистскую операцию, а затем неприступность суда и прокуратуры, Юрий Петрович апеллировал к чувствам читателя, пытался донести всю бессмыслицу и в то же время бесчеловечность «специздевательств», произведенных над Азадовскими тоталитарной машиной – органами КГБ, суда, прокуратуры… Завершалась статья словами:
Эту историю я хотел закончить одним – требованием возбудить уголовное дело против всех участников этой провокации по статьям Уголовного кодекса, карающим преступления против правосудия (и прошу Генеральную прокуратуру России рассматривать эту публикацию в качестве основания для возбуждения уголовного дела).
Но потом понял, что эта история не только о том, как машина власти накатывается на человеческую личность. Нет, еще и о мужестве сопротивления истинного интеллигента.
Повторяю, не был Константин Азадовский ни диссидентом, ни правозащитником, ни отказником. Он просто боролся за честь и достоинство себя и любимого им человека. Можно согнуть интеллигенцию (сколько сгибали!) – сломать невозможно. И нечего говорить, что все это прошло, кончилось, погибло в рыночном море. Не надо! Все есть, все осталось, все в крови, все в окружающем нас воздухе! И эта история, решил я, – еще одно тому свидетельство.
Но потом подумал-подумал и решил: да нет! О другом эта история. О любви… Да, о любви!
Жили-были ОН и ОНА. Для того чтобы арестовать ЕГО, нужно было арестовать ЕЕ. На следствии ОНА оговорила себя, что это ЕЕ пакет с пятью граммами анаши был найден на ЕГО книжной полке, думая, бедная, что этим ОНА спасет ЕГО, не подозревая тогда, что нужен-то был ОН…
«Мой бесконечно родной, мой добрый и несчастный. Я ежедневно и ежечасно думаю о тебе. Сколько бы лет мы ни получили, где бы мы ни были, я всегда с тобой. Если освобожусь, сразу же найду тебя. Держись, роднуля».
Эту записку Константин написал Светлане из камеры в камеру. Ее перехватили в ленинградских «Крестах». Записка от НЕГО к НЕЙ так и осталась лежать в его уголовном деле. Тогда ОНА ее не получила.
12 октября 1994 года «Литературная газета» поместила на своих страницах комментарий к расследованию Щекочихина, написанный членом Конституционного суда РФ Эрнстом Аметистовым, который к тому времени был не только известным юристом, но и членом Московской Хельсинкской группы и одним из наиболее деятельных членов общества «Мемориал». Вот что он написал:
История, рассказанная журналистом Юрием Щекочихиным, отводит нас к годам восьмидесятым. Позади эпоха сталинских лагерей, хрущевская оттепель. История провокации против интеллигента, наглой, циничной, безнаказанной, наводит на размышления.
Больше всего волнует в связи с тем, что написал Юрий Щекочихин, продолжающийся сериал систематической безнаказанности спецслужб. Егор Гайдар на годовщине октябрьских событий 1993 года напомнил о работе наших органов, и, вместо того чтобы давать реальную информацию о состоянии дел, они сообщали о том, какие иностранные граждане и дипломаты находятся у Белого дома… Это подчеркивало их несостоятельность в контроле над ситуацией в стране. А ситуация была чрезвычайная. Но они и тогда полностью проявили свою состоятельность статуса безнаказанности.
После смерти Сталина, когда мы впервые узнали правду о преступлениях против народа, появилась надежда. Государство скажет свое слово, правосудие скажет… Что же мы получили? Зa исключением осуждения самых ярких представителей сталинского режима (их, кстати, осудили по сталинскому же трафарету «врагов народа», «агентов империализма») государство не покаялось перед народом. Череда безнаказанности продолжилась.
Офицер госбезопасности, который разрабатывал «мероприятие» против Константина Азадовского, героя «Ряженых», по-прежнему служит (ныне он возглавляет Санкт-Петербургское управление Федеральной службы контрразведки). Мы на всех перекрестках кричим о росте уголовных преступлений, разгуле мафии. Но эти преступления, даже самые гнусные, не идут ни в какое сравнение с преступлениями государственными. Последние приводят не только к ослаблению правопорядка, подрыву конституционного строя, но прежде всего к массовому безверию.
Здесь возникает вопрос: что же, мы хотим мщения, охоты на ведьм? Я думаю, это не выход. Нужен закон о подобных преступлениях. После войны в Германии прошли процессы над фашистскими офицерами. Наша пресса тогда возмущалась: почему многих оправдали? Да, оправдали. В конце концов мера наказания – это дело суда. Важно другое. Была подведена черта под теми кошмарными годами. Государство покаялось перед народом. Германия очистилась. У нас подобного не было. Бериевские слуги и сегодня заявляют: «Мы действовали правильно, время было такое». Самоамнистия привела к моральному разложению нового поколения органов.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
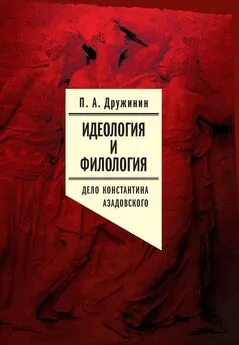


![Петр Дружинин - Загадка «Таблицы Менделеева» [История публикации открытия Д.И.Менделеевым Периодического закона]](/books/1063991/petr-druzhinin-zagadka-tablicy-mendeleeva-istori.webp)